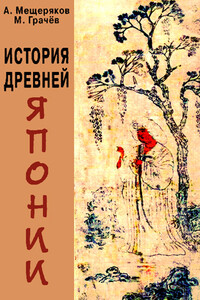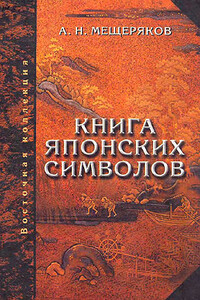Открытие Японии и реформа японского тела (вторая половина XIX — начало XX вв.) | страница 17
Из приведенного пассажа и из всего творчества этого выдающегося педагога видно, что Кано Дзигоро рассматривал дзюдо не столько как спорт, целью которого является победа в соревновании, сколько как средство достижения телесного и морального совершенства. При этом он делал акцент не на “грубой” физической силе и не на развитой мускулатуре (что для европейских видов борьбы было бы только естественно), а на силе “мягкой”, на гибкости и ловкости. Современники неоднократно отмечали, что мастера дзюдо не отличались габаритами тела и рельефной мускулатурой, они выглядели собранными и подтянутыми — не более того. Целью занятий дзюдо было самосовершенствование, а не победа как таковая.
Деятельность Кано Дзигоро по пропаганде дзюдо следует признать вполне удачной. Однако она не могла повлиять на успехи японцев в тех европейских видах спорта, где требовалась не “мягкость”, а совсем другие качества. Несмотря на несомненные достижения Японии как страны в “коллективном зачете” в области экономической и военной, в зачете индивидуальном японцы по-прежнему не могли составить достойной конкуренции на международной арене. Первый раз они приняли участие в Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме. Японцев оказалось всего двое — спринтер и марафонец. Их выступление оказалось откровенно провальным, марафонец даже не сумел добраться до финиша.
В 1884 году появилась работа журналиста Такахаси Ёсио “Об улучшении японской расы”, в которой он утверждал, что отсталость Японии от Запада объясняется расовыми причинами и для “улучшения” породы японцам следует вступать в браки с европейцами, что принесет более совершенное потомство. Таким образом, Такахаси полагал, что тело японца не может быть реформировано усилиями одних японцев, для его приспособления к новым условиям требуется внешнее “вливание”.
С точки зрения практического осуществления “план” Такахаси вряд ли мог быть воспринят серьезно. Европеизация Японии действительно набирала обороты, но самих европейцев в стране насчитывалось совсем немного. Так с кем же будут скрещиваться японцы? Проект Такахаси подвергся суровой критике, однако она заключалась вовсе не в сомнениях по поводу его осуществимости. Показательна реакция известного мыслителя и педагога Като Хироюки (1836–1916), который высказывал следующие соображения: