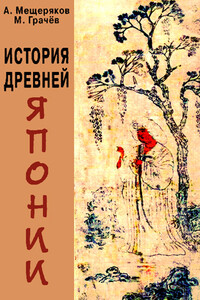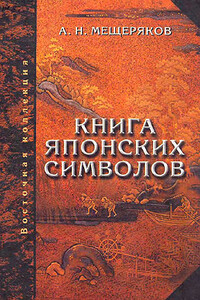Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории | страница 9
По мнению Янагида Кунио, «островная жизнь» предполагала существование маленьких общин. «Человеку попросту было некуда деться — кругом море. Поэтому точно так же, как в случае с птицами и рыбами, отделение от коллектива грозило многими опасностями. (И у японцев) выработался почти такой же инстинкт. На-хождение в коллективе сильно уменьшает опасности. Перелетные птицы держатся вместе — отбиться от стаи означает сделаться добычей врагов. Полагаю, что отсюда и происходит чувство привязанности к коллективу» (Нихондзин 1976: 273).
Твердя о том, что островная Япония окружена водной стихией, послевоенные этнологи воспринимали море как преграду, а не как возможность для общения. Синкретизм японской культуры (сочетание автохтонных и заимствованных элементов из Кореи, Китая и стран Запада) интересовал их намного меньше, чем поиски самобытности.
Этнологи искали и находили признаки «исключительности» японцев. Их работы, получавшие с течением времени все больший резонанс, были, как правило, лишены агрессивной и экспансионистской составляющей. Ученые говорили не только о «достоинствах» японцев, но и об их «недостатках». Но даже эти недостатки представлялись как исключительные. Признавая присущую японскому языку омонимию препятствием к свободному общению, Ото Токихико отмечал, что другого такого языка не существует (Там же: 163). Иными словами, этнологи, а вслед за ними и мыслители, журналисты и шарлатаны искали не общие для всего мира ментальные, поведенческие и бытовые структуры, а выделявшие из общего ряда «национальные» особенности. При таком подходе кросс-культурный анализ в значительной степени оказывался фикцией. Как правило, мыслители говорили о мире «в целом», о мире, не расчлененном на отдельные страны и традиции. Оборот «по сравнению с другими народами, японцы…» сделался общим местом. Этнологи утверждали, что по сравнению с другими народами в японской культуре четче выражено разделение священного и профанного, «своего» и «чужого», они более остро чувствуют смену времен года, у них более развито и чувство коллективной солидарности, японцы исключительно любопытны, они не боятся смерти. Главный носитель культурных смыслов, японский язык характеризуется невероятным богатством, ассоциативностью. Японский способ речевого общения отличается этикетностью, недосказанностью, расплывчатостью, поэтичностью. Официальная идеология военного времени тоже делала упор на особости японцев, но это была особость другого рода. В томе, посвященном 2600-летию японской империи, которое широко праздновалось в 1940 г., говорилось: «То сердечное благоговение, которое испытываем мы, японоподданные, по случаю 2600-летия страны, трудно уяснить до конца людям из других стран; понять глубины нашего сердца очень тяжело» (Тэнгё хосе, c. 3).