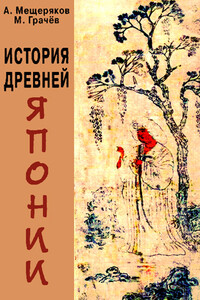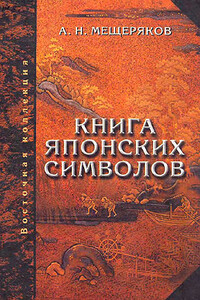Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории | страница 8
Термин «симагуни» — «островная страна» — был одним из наиболее частотных в их словаре. Он был в широком употреблении и у довоенных пропагандистов, которые, оправдывая свои экспансионистские планы, утверждали, что у островной Японии слишком мало места для ее возрастающего населения. Однако территориальные приобретения (в особенности на материке — Корея и Маньчжоу-го) привели к тому, что его отчасти сменили такие фразеологизмы, как «материковая Япония» (тайрику нихон) и «морская держава» (кайкоку). Военные победы лишали Японию ее «малости», о которой говорили те, кто обосновывал экспансию недостаточными размерами территории. И вот на страницах школьных учебников Япония на глазах превращалась в «морскую державу»: «Нынешняя Япония, как и говорит название “морская Япония”, во всех морях мира подняла свой “солнечный круг” (национальный флаг. — А. М.), который испускает сияние страны… Пространство, на котором несет свою славу морская Япония, необъятно. Продвигаться по этим широким просторам с “солнечным кругом” — наше благородное предназначение» (Ириэ 2001: 45). В это время море стало рассматриваться как среда проницаемая, как субстанция, через которую Япония станет — уже становится — великой. Однако поражение в войне и потеря ею заморских территорий снова вернули Японию в ее исторические островные границы.
Принимая термин «островная страна», послевоенные этнологи делали совсем другие выводы. Хори Итиро писал: «Япония является островной страной, деревенское общество сформировалось в результате проявления принципиально “островной” феодальности, проявившей себя в интровертно-консервативной и столь замечательной сдержанности и приспособляемости, в развитой солидарности — в народе с выраженными национальными особенностями. Отсюда происходят и замечательные достижения в области бытовой культуры, религии, искусстве и литературе. С другой стороны, выпячивание собственного “я”, недопущение чужаков и островное сознание отрезали пути к исконной свободе. Окруженность общинного общества морем воспитала в японцах сильное чувство родины и мимикрию…» (Нихондзин 1976: 78). Таким образом, термин «симагуни» служил теперь доводом в пользу исключительности японцев — будь то характеристики положительные или отрицательные. Правила традиционного этикета требовали от человека скромности. Японец, взятый сам по себе, не должен был выпячивать свою уникальность. Однако правила поведения нации требовали совсем другого: отделения, противопоставления, «индивидуализации» коллективного сознания.