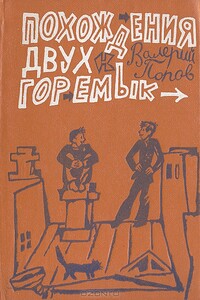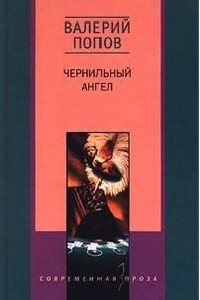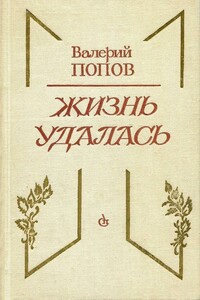Грибники ходят с ножами | страница 65
“Привет, Валера! Мне очень понравились твои рассказики в “Молодом Ленинграде”. — “А, чушь!” — говорю я. Я тоже мог бы сказать, что мне “очень понравилось” его единственное, странное, непонятно почему отобранное из всего равнодушными составителями стихотворение в том же “Молодом Ленинграде” (и кстати, первое и последнее, напечатанное здесь)... но это же смешно. Только усмехаться и можно над тем, как и что у нас печатали! Тяжелые, нервные годы — но образовались мы именно тогда, хотя и не представляли еще, что будет с нами.
Тут я, спохватившись, снова вижу себя в белой американской комнате. Сколько времени? Кидаюсь вниз — и оказываюсь в странной пустоте и тишине. Никого! Стриженые лужайки, сверху занавешенные от солнца знаменитыми “белыми дубами” — изображенными даже на гербе штата Коннектикут. Небо ярко-синее, за лужайками — белые деревянные дома. Осень. Коннектикут.
Нахожу серые административные здания, за ними — огромное зеленое поле, по краям — радостно орущая молодая толпа; разные цвета по разные стороны: помню, ребята говорили — решающий матч!
Вхожу в аудиторию, оказываюсь наверху, слышу голос — и сердце снова замирает, падает. Что так действует — голос или слова?
Была тишина, потом — овация. Потом он снова начал читать этот стих — по-английски.
>Отпевание
Я дал стюарду в голубой безрукавке мой билет, он стал стучать по клавишам компьютера, компьютер прерывисто запищал, и я увидел на экранчике зеленые цифры, номер билета и мою фамилию латинскими буквами. Потом стюард улыбаясь протянул мне билет и показал волосатой рукой — проходите!
Я сел в зальчике, абсолютно один-единственный среди стульев, и стал с тоской озираться. Местечко было довольно унылое — таким, наверное, и должно быть место, в котором человек ожидает перелета из одного мира в другой. Никаких уже примет — ни еще этого мира, ни уже того — только круглые часы с ободком на белой стене — и все. Я вдруг внезапно вспомнил, что там, куда я лечу, местечко это называется “накопитель”, и почему-то приуныл еще больше. Ага — одно утешение все-таки есть: на сетчатых полочках у дальних стульев были навалены серебристые пухлые пакетики с красной надписью “Снэк”. Как-то в перелетах по миру, сидя в “накопителях”, перестаешь постоянно замечать эти “снэки” — всюду они лежат, но теперь-то, я вспомнил, мне лететь туда, где эти “снэки” — парочка ломтей ветчины, кусочек ананаса, картонный пакетик фруктового йогурта, баночка сока — могут стать желанным сувениром, — я с небрежным видом (я и брал их всегда так, но сейчас — подчеркнуто небрежно) взял парочку “снэков” и кинул их в “атташе-кейс”.