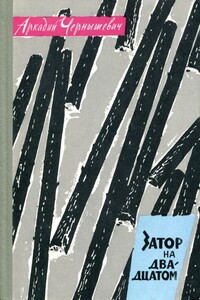Лесные качели | страница 5
Вот именно, кроме одного. И этого одного он ничему не научил — тот сам от него научился. Но не очень, выходит. Нет больше Глазкова. И что его больше нет — одна из немногих мыслей Егорова.
Бывают в жизни такие проклятые встречи. Войдет человек в тебя как заноза или клещ какой, и не вытащить его и не избавиться. И чем больше с ним борешься, тем глубже он в тебя впивается, и саднит, и раздражает. Несовместимость тут какая-то или, наоборот, совместимость, симбиоз какой или взаимное паразитирование, но только никуда от него не деться. Можно, конечно, прибегнуть к хирургическому вмешательству, вырвать с корнем, удалить, отрезать, но ссадина все равно останется, зарубка на память, и неизвестно еще, не будет ли эта ссадина хуже самой занозы. Такой занозой был для Егорова Глазков.
Глазков был много моложе Егорова. Он не мог помнить войну и потому принадлежал к другому поколению. Теперь уже трудно было бы различить в них ту разницу возрастов, что и составляла разницу поколений, но для Егорова она была вполне заметна и ощутима. Глазков не нюхал пороха, не ведал объединяющего горя народной трагедии, не знал радости победы. Он родился и вырос после войны.
Было же такое счастливое время, когда Егоров и не подозревал о существовании Глазкова. Летал себе, свободный и счастливый, как птица. Конечно, не так уж легок был его полет, но это было его личное дело и никого больше не касалось.
Он посвятил свою жизнь полету, это была его единственная страсть, мечта, единственная форма его жизни, которая диктовала все остальное: форму одежды, форму поведения, форму отношений с людьми. Вся же остальная жизнь, которая не помещалась в эту форму, его не касалась. Да и то немногое, что прорвалось в его жизнь, было тщательно подогнано под узкую и жесткую норму походного рациона. Но лично он, Егоров, был своей жизнью вполне доволен.
Проходило время — Егоров не менялся. Он упорствовал с опасной бритвой и помазком: три дареных электробритвы составили род коллекции; стригся он по-прежнему под полубокс… Молоденькая парикмахерша как-то раз спросила: что это такое? — она не слышала такого слова и смеялась. Получалось, что для Егорова время не шло, оно для него обозначалось лишь сменой летной и нелетной погоды да еще приближением очередного медосвидетельствования, с неумолимостью означавшего для него время, которое он якобы отменил. Там были звоночки, а потом и звонки. Егорова это бесило: люди, понимающие в авиации много меньше, чем он в медицине, решали, однако, летать ему или не летать, и все чаще почесывали затылок, решая.