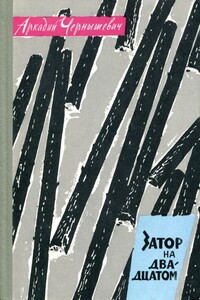Лесные качели | страница 4
Потом начались кошмары. С безнадежной трезвой очевидностью он увидал себя со стороны, ужаснулся и чуть было не завыл от тоски. Пожилой отставник, а еще гоношится, а еще что-то о себе воображает. Бросил зачем-то друзей и чешет невесть куда и зачем. И все его позы, фокусы и зароки, потеряв адресата, сразу стали жалкими и никчемными, потому что все это имело смысл только среди своих, где его помнят и любят. А там, в большой жизни, которую он так дерзко ринулся покорять, там никому до него нет дела. Тоже мне, выкинул финт! Зачеркнул прошлое. А что дальше? Ради чего он все это нагородил? Ведь тогда, когда он бежал из деревни, он имел ясную цель, мечту, впереди была жизнь. А теперь все позади и несет его неизвестно куда…
Если бы Егорову сказали, что он странный человек, он бы очень удивился. Когда бы ему сказали, что он интересный человек, он бы пожал плечами и не поверил точно так, как не поверил однажды, прочитав в газете про полковника Егорова, что «его жизнь — песня». Но если отвлечься от скудости штампа, то журналист был недалек от правды. Жизнь Егорова и впрямь имела одну сквозную мелодию, настолько с ним общую, что услышать, что она была, он мог лишь когда она оборвалась, по резкой решительной тишине. По той самой тишине, о которой он так часто мечтал, но в которой никогда не нуждался и с которой понятия не имел, что делать. Он мог затыкать и открывать свое ухо сколько угодно — никакой разницы: та же пустота тишины. Он больше не летал.
Когда он прикрывал глаза, то снова летел, но как-то устрашающе, тошнотно тихо, будто кончилось горючее, то есть падал. Он ухмылялся криво.
Он всегда летал. Он летал хорошо. Он это про себя знал. Знал даже тогда, когда «летать хорошо» в корне поменяло свой смысл и, казалось, романтика высшего пилотажа воздушных парадов и испытаний стала почти таким же прошлым, как дирижабль. Тем не менее Егоров знал, что продолжает летать хорошо, но другие почему-то еще лучше его знали, насколько хорошо он летает. Он привык к этому хвосту репутации, всегда следовавшему за ним, и не замечал его.
Он себе не казался интересным, потому что не мог ничего причислить в своей жизни к событиям: их было, на его взгляд, всего три: первый бой, смерть жены и решение выйти в отставку. В том плане, в котором, он полагал, мыслят умные люди, он никогда не мыслил. Ему казалось, у него не бывает мыслей. Конечно, он соображал, это — да. Когда кто-то находил у него особый почерк, стиль, мастерство, секрет, он полагал это за романтику и, не таясь, ничем не мог поделиться: он был бездарнейший педагог. Все, пытавшиеся перенять у него что-то, быстро отступали, так ничему и не научась. Кроме одного…