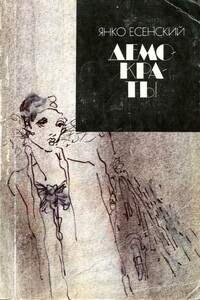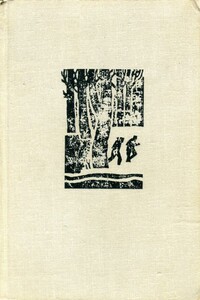Я, Данила | страница 88
Подошла моя очередь. Сквозь дремотный туман председатель пропустил луч учтивой приязни:
— Что вы, товарищ, можете сказать на это?
По всей вероятности, он ожидал невразумительной невнятицы. Но я выпрямился, как минарет на Беговой мечети, развел руками и возопил:
— Товарищи и братья!
Эти два неюридических термина прямо на глазах моих сотворили чудо. Все мы словно бы внезапно поняли, что люди могут быть не только судьями, истцами и ответчиками, но еще и товарищами и братьями. Я произнес их так трагически, как будто сообщал вкладчикам о крахе Народного банка ФНРЮ!
Первая тактическая победа: я обратил на себя внимание председателя и смутил противника.
— Товарищи и братья! — воскликнул я со слезой в голосе. — В ваших руках наша славная социалистическая справедливость. Судите меня! Однако прежде выслушайте, чтобы до конца быть уверенными: приговор ваш не идет вразрез с учением Маркса, Энгельса, Ленина! (Я уже совсем отвык от концовки этого ритмического ряда имен.) Я никогда не ходил по судам и потому не знаю, как судят людей, что попали в беду, вроде моей. Товарищ председатель, раз народ доверил вам столь высокий и почетный пост — быть на страже нашей социалистической справедливости, значит, вы всю свою жизнь с молодых лет отдали борьбе за эту справедливость. Борясь за права народа, вы, конечно, видели страдания нашей бедной гордой Боснии. Она кормила вас, партизан, отдавала вам хлеб до последнего зернышка, когда вы, раненые, спасались в ее дремучих лесах, она оберегала вас, ибо только в вас видела избавителей от столетнего ярма, горького и кровавого! Вы, товарищ председатель, помните, как вы проходили колоннами, с пулеметами на плечах и гранатами на поясе, а наши голодные, оборванные ребятишки отдавали вам последний кусок, чтоб вы лучше воевали за их молодость, за их будущее, потому как их отцы, к которым я причисляю и себя, воевали в других братских республиках. Товарищ председатель, вспомните страшное горе тех сел, через которые проходили ваши батальоны…
Председатель сначала удивленно заморгал, потом почувствовал себя польщенным, заерзал и вдруг выпятил грудь, словно и в самом деле все четыре года воевал в Боснии. А когда он вдосталь нахорохорился, войдя в роль, какую я ему навязал, ему пришлось-таки вспомнить, как выглядела Босния в те времена…
Все силы своей изворотливости я употребил на то, чтоб поддержать его в этом очень приятном для него заблуждении. Я наседал, как командующий армией, когда какой-нибудь роте удается пробить брешь в линии обороны противника и он немилосердно бросает в нее войска, расширяет и углубляет ее, разваливая вражеский фронт. Я пустил в ход артиллерию фраз, срывая со слушателей последние лохмотья настороженности, в их мигании и непрерывных кивках я видел взметающиеся в воздух бункера юридической логики, я забрасывал десанты автоматчиков, застававших врасплох их сочувствие, и оно пробуждалось и сдавалось в плен поначалу частично, а потом и целиком. Ракетами вымышленных цитат из речей наших самых высоких руководителей я освещал все закутки поля брани, не позволяя ничему уйти в тень. Я доказывал с пеной у рта, просил, заклинал, гордо вскидывая голову, как человек, ждущий не милости, а справедливости, все глубже овладевал душой и сердцем председателя суда, все безогляднее требовал от него, ко все большему его удовольствию, справедливости человеческой, но при этом не умалял справедливости законов, взывал к ним, как к людям, возносил их, как блюстителей закона.