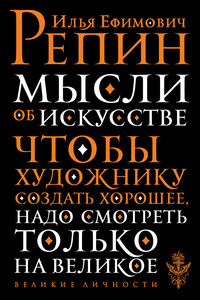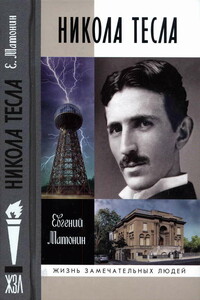Далекое близкое | страница 6
Но, конечно, Репин-мемуарист никогда не достиг бы этой живой беллетристической формы, если бы он не владел труднейшим мастерством диалога.
Живописцы в своих мемуарах большей частью базируются на зрительных образах. У Репина же во всей его книге сказывается не только проникновенный, наблюдательный глаз, но и тонко изощренное ухо. Это было ухо беллетриста. Необычайна была его чуткость к разнообразным интонациям человеческой речи. Все, кого изображает он в книге — и волжские рыбаки, и чугуевские мещане, и студенты Академии художеств, и Тургенев, и Стасов, и Гаршин, и Крамской, и Семирадский, и Лев Толстой, — много и охотно разговаривают у него на страницах, и всякого из них Репин, как природный беллетрист, характеризует стилем его речи.
Перелистайте, например, тот рассказ, где он вспоминает о возникновении своих «Бурлаков». Артистически переданы в этом рассказе и реплики расстриги-попа, и шутовские бравады Васильева, и таинственно-бессвязная бормотня хозяина той избы, где он жил.
Излагая в своей книге один из споров Семирадского со Стасовым, он — через полвека! — воспроизводит этот спор на десятке страниц слово в слово и характеризует каждого спорщика его речевыми приемами.
Был ли в России другой живописец, так хорошо вооруженный для создания беллетристических книг?
Отлично умел он использовать народную речь и на всю жизнь сохранял в своей памяти многие крылатые фразы великорусских и украинских крестьян, подслушанные им еще в детстве, а также во время скитаний по волжским и днепровским деревням:
«— Слышь, Канин баит: патрет с тебя писать…
— Чего с меня писать! Я, брат, в волостном правлении прописан».
Или:
«— Вы не смотрите, что он еще молокосос, а ведь такое стерво, — как за хлеб, так за брань: нечего говорить, веселая наша семейка».
Или:
«— У його в носі не пусто: у його волосся не таке: він щось зна». — «Тай дурень кашу зварить, як пшоно та сало». — «Та як чухоня гарна, та хліб мягкий, так геть таки хунтова».
Читая свои воспоминания вслух, он отлично воспроизводил интонации крестьянского говора, даже немного утрируя их.
Вообще в его книге был превосходный язык — пластический, свежий, выразительный и самобытный до дерзости, часто приближающийся к народной, демократической лексике, язык, не всегда покорный мертвым грамматическим правилам, но всегда живой, живописный.
Это тот язык, который обычно приводил в отчаяние бездарных редакторов, стремившихся к бездушной, бесцветной, полированной речи.