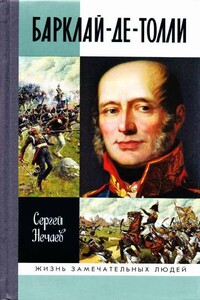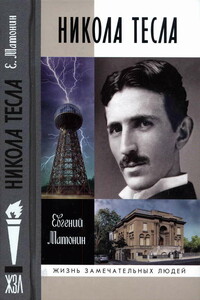Далекое близкое | страница 5
Таких отзывов были десятки. Позорная слепота горе-критиков! Даже замечательные воспоминания Репина о том периоде его биографии, когда он создавал «Бурлаков», не встретили в тогдашней печати сочувственных откликов. Между тем литературное дарование Репина раскрылось здесь во всем своем изумительном блеске. Те главы, где Репин характеризует пейзажиста Васильева, дают такой выразительный и яркий портрет, словно они написаны репинской кистью.
Вы видите его лицо, его походку, вы слышите его задорный юношески-самоуверенный смех, он движется и живет перед вами, привлекательный своей пушкински светлой талантливостью.
Вся противоречивая сложность Васильева показана здесь не в какой-нибудь формуле, а опять-таки в живой динамике речей и поступков.
Если бы Репин ничего не написал, кроме этих страниц о Крамском и Васильеве, мы и тогда знали бы, что у него подлинный талант беллетриста.
Вся его повесть о житье с Федором Васильевым на Волге (когда он собирал материалы для своих «Бурлаков») показывает, каким превосходным беллетристом мог бы сделаться Репин, если бы он не отдал всех сил своей живописи.
Его «Бурлаки на Волге» — это даже не повесть, это поэма о счастье и молодости, о звездном небе над просторами Волги, о веселой и вдохновенной работе двух гениальных художников, влюбленных в искусство и жизнь. И хотя в этой поэме немало мелких бытовых эпизодов, вся она так широка, так мажорна, что даже они не в силах нарушить ее могучую поэзию счастья и молодости.
И с какой драматической силой передана им трагедия Ге, великого художника, изменившего живому искусству во имя отвлеченной безжизненной догмы! Репин переживает его отход от искусства, как свое личное горе, заражая этим чувством и нас.
Вообще драматизация событий была излюбленным методом мемуарной беллетристики Репина. Описывая любой эпизод, он всегда придавал ему горячую эмоциональность, сценичность. Даже приход станового, который требует у Васильева паспорт, даже толкотня публики перед картинами Архипа Куинджи, даже появление Льва Толстого в петербургском трамвае, даже купля-продажа какого-то рысака, приведенного «батенькой» с харьковской ярмарки, — все это драматизировалось им, словно для сцены.
Он нисколько не заботился об этом. Это выходило у него само собой. Таково было органическое свойство его мышления. Здесь сказалась в Репине та же черта, что сделала его великим драматургом русской живописи: всякое событие излагал он с такой темпераментной страстностью, словно оно сызнова совершается в эту минуту. Мне не раз случалось замечать, что, даже когда он пересказывал только что прочитанную книгу, он невольно придавал ее фабуле сценически эффектный характер, какого она не имела. Сам того не замечая, он театрализировал всякую фабулу. Это тяготение к драматизации событий придало большую увлекательность таким главам его мемуаров, как «Бедность», «Матер