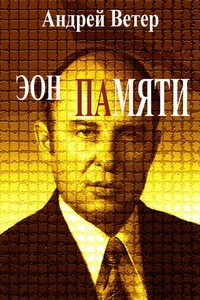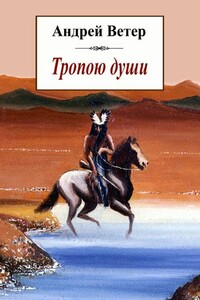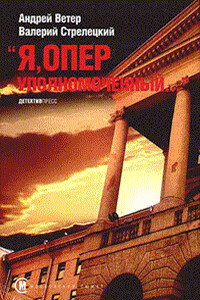Между тишиной и шумом | страница 33
После смерти Шебаршина я снова открыл эту книгу, и она проникла в меня ещё глубже. Многое в ней (книге) и в нём (авторе) открылось теперь с другой стороны: ещё больше личного оказалось в ней, будто оно накапливалось там, дозревало, пока книга стояла на полке. И вот дозрело до такой степени, что каждая строчка приобрела особый вкус. Эта книга – зеркало в котором теперь всё видно чётче и страшнее, чем при жизни Шебаршина.
***
24 декабря 1983 года умер мой отец. В течение пятнадцати лет Леонид Владимирович обязательно приезжал к нам 24 декабря, мы подолгу сидели за столом за бутылкой водки, вспоминали. Пожалуй, его память о моём отце я ценю выше всего остального. Собственно, остального почти не было, а что было, что вряд ли можно назвать хорошим…
Летом или весной 1984 года я приехал к нему домой. Догадывался ли он, с какой просьбой я приеду? Состоялся непростой разговор. Я хотел пойти в разведку. Он долго и мягко отговаривал, открывая передо мной неприглядные стороны Службы. Я не поддавался и так же мягко настаивал. И тогда, провожая меня к троллейбусу, он сказал: «Ладно, давай попробуем. Завтра я принесу анкеты. Приезжай, заполнишь»…
Так всё началась.
В то время я понятия не имел, какую должность он занимал. Какой-то начальник в Службе.
Потом, когда я осознал, что Служба и я – это два взаимоисключающих мира, меня охватило отчаянье. Надо было уходить, но разве можно уйти из Системы, куда я сам напросился. Я ещё и не работал, ещё и не прикоснулся толком к профессии, а уже хотел удрать. Впрочем, это и было главное – уйти до того, как случится непоправимое. Не хотелось, чтобы кому-то было стыдно за меня. Уйти, пока ещё можно уйти без потерь, без провалов, без ошибок, без страшных тайн, сковывающих сердце.
Много лет спустя у нас в очередной раз зашёл разговор о смысле жизни, о судьбе. Леонид Владимирович с печалью в глазах сказал: «Да, всякое случается. Вот ты, например… Бросили тебя, как котёнка, в тот мир, куда не надо было бросать. И никому не было дела до того, какое у тебя настоящее призвание». Это он о КАИ, о Краснознамённом институте имени Андропова. Разумеется, я попытался возразить, мол, я сам выразил желание. Шебаршин кивнул: «Конечно, сам. Только ведь мне виднее было, что тебе не надо было соваться туда. Не твоё это. Литература и рисование – вот твоё призвание».
Шебаршин не только понимал, что я не создан для разведки, он помнил также, что сидя возле моего умирающего отца, он спросил его, кивнув в мою сторону: «Юра, а не устроить ли Андрея к нам?» Отец отрицательно покачал головой, хотя совсем недавно увлечённо рисовал передо мной перспективы карьеры разведчика. Болезнь истерзала его, высосала силы, перечеркнула будущее, операция не спасла, сделала беспомощным, неподвижным. Он мог только думать, лежать и думать. И переосмыслил многое, судя по категоричному движению головы.