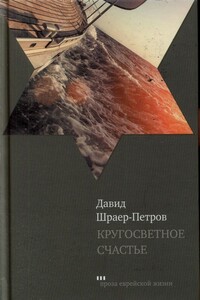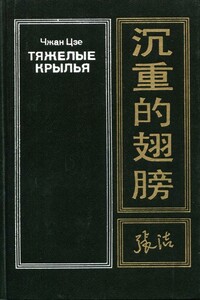Необъективность | страница 30
В первый момент видно плохо — как будто грязь, отслоенья, потом — как сквозь серый иней, и даже вздрогнешь, видно, что там кто-то есть — почти на метр он повыше меня, смотрит из-под капюшона. Позже доходит — картина. В ней мало что сохранилось, но до конца не проходит — он же стоит здесь три века. А если это и есть — тот самый «черный» монах в балахоне, я всегда вижу спиной — не поднимает лица, только и я не могу обернуться. Святой без подписи, он не икона — как камертон человека-пути в поиске сущности мира — в этом, возможно, была главная ценность из допетровской культуры. Это — путь духа. Эти глаза странной формы на старчески-детском лице, глаза того, кто всегда видел небо. Стена — большая, она — его мир, войдя в него с таким взглядом, он уже не возвратился. Вдруг, оказалось, что здесь часть меня, и несущественно, что нарисована кем-то. Действие фрески меня удивляет — темными красками, позой фигуры, надчеловеческим взглядом она уже раздвигает реальность. А все фигурки в изогнутых позах, на заднем плане строенья — они, напротив, уносят — периферией вниманья ты падаешь с ними. Когда ты, внешний, увидишь вот это, все изнутри быстро станет спокойным. А когда ты отвернешься, вдруг выясняется — что-то осталось, словно пустой силуэт. Весь прежний мир из твоих представлений при том становится смутным, как из-за трещин на стеклах, вдруг неизбежно ветвится. И уже все это: место — икона, но только больше, объемней, и, причем, с действием тем же. Ну а то первое — лик, изменившись, уже становится дальним. И ты внутри, и ты в ином сознаньи, чувствуешь, все понимаешь. Это, как дверь, безотказно…
«Старцы», отшельники любых религий, просто уйдя от поверхностной жизни, все находили в себе эту сущность, бывшую в прежнем сознаньи. Она несла уважение к сущности в каждом, как часть «закона внутри» — ты понимаешь «его» как себя и, как себе, «ему» видишь, желаешь. Все это не было иной культурой, это и было культурой — полупотерянной «русской идеей». Когда, с Петром, победило другое сознанье, то, постепенно, все было забыто.
Я представляю себе эти годы, что накопили тут копоть — столы и лавки, монахи и тишина из долины. В руку меня тяпнул злющий комар, и сильный зуд, нестерпимей крапивы, мне помешал смотреть дальше. Я от бессилия боли иду до окна, сквозь щель смотрю на долину. Там река мягкой змеей ползет по бывшему пруду — по лугу, где уже ивы.
— Как тебе этот монах, помнишь землянки, «деды» там сидели. Я говорил тебе, что у землянок я посидел раз на склоне, и только две мыслеформы от «древних монахов». Главная — метров с пятнадцать длинною березы очень стараются вымести небо, но они даже его не щекочут. И еще одна — толстый монах, подпоясанный, как тюк, веревкой, пыхтит на тропке к ним в гору и в котелке несет жрачку. Нет других мыслей из этого мира, ну или я не могу их представить. — Я, как последний турист, наклоняюсь и выбираю внизу у стены кусок слоев штукатурок размером с яйцо с коричневатым фрагментом одежды, что мне с ним делать — положить на полку. Возле окна я смотрю на него, где нет слоев синеватых побелок, краска атласно играет.