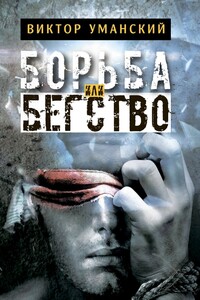Необъективность | страница 3
Когда проснулся, был день, всё болело, дрожь хоть прошла, но, всё равно, было зябко, сил ни на что не осталось. Когда с трудом повернулся на бок, то увидел — рядом лежит худой «синенький» парень — Ты с операции тоже? — Да, нас там резали вместе. Вот, мандарины мне мать принесла — бери, пожалуйста, сколько захочешь. — Приподнял голову — глянул, странный оранжевый цвет от шершавых шаров на его тумбочке рядом, как молотком, стукнул зренье. — Позже, спасибо. — Я вновь отключился. Снова открыл глаза уже под вечер — нянечка меня трясла. — На ка, вот выпей таблетки. — А где тот парень с соседней кровати? — Перевели его… — И она вдруг отвернулась. — Ешь, вот его мандарины остались. — Положив их на мою тумбочку рядом, не обернувшись, она вдруг ушла, а я опять провалился.
…Как-то, возможно назавтра, или в какие-то ещё лежачие дни я вдруг услышал смешной разговор — на койке парня теперь был мужчина — поверх меня он рассказывал дядьке. — …Идём мы раз по Клочковской, он и говорит — «Смотри, Валера Леонтьев! Ну а давай дадим ему…» — Ну мы и дали. Он где-то здесь потом тоже, возможно, лежал, может быть в этой палате.
…А как-то ночью проснулся от громкого голоса, кто-то ходил, говорил. — Ну вот же, вот — мой Камаз, под окном, я его двигатель знаю! Надо идти, он — за мною. — Глаза обвыклись с густой темнотой, и я почти различал, как кто-то мечется из угла в угол — пойдёт к окну, долго машет руками — лишь силуэт черноты на чуть сереющем фоне. — Что с ним? — Спросил я у дядьки, спать он не мог, очевидно. — Белочка после наркоза, бывает. — На койке не шелохнулись.
Время шло в трёх скоростях (как будто в разных пространствах): по меркам этой палаты всё тихо тянулось, по меркам жизни то было мгновенье… По меркам тех мягких глыб, что вращались в душе, как жернова, растирая сознанье и убивая все чувства — время стояло, и сколько жизней уйдёт, чтоб закончился этот процесс, и, вообще — ну а буду ли жить, было неясно тогда, как теперь — как будто вход в саму вечность, времени нет, есть паденье. Что я сейчас, а что в тамбуре — неразличимо. Дорога, впрямь, стала «дальней». Боль от тех брошенных ею нечаянных слов не поддаётся наркозу — я всё попробовал, не поддаётся. И что уж тот мартышонок — фигнюшка. Внутри, по-прежнему, корчит. Только душа научилась сжиматься, когда встречается с чем-то подобным, лишь с подозреньем на это — почти уходит контроль над собой — «ни чего мне здесь не нужно, только не это, не надо».