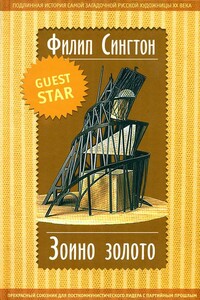Необъективность | страница 102
— Я тебя долго ждала. Пойдём, а то рюкзак твой пропустим. — Но он уже стал моим, этот мир, чуть иной, возникавший при ней, и уходить не хотелось. Мы теперь центр тишины, и мы идём по аллейке обратно. А такси так и стояли, так же горел ядовито-зелёный искрящийся глаз — в салоне было темно, но я почувствовал, что там не пусто. Не осознавая зачем, я вдруг шагнул прямо к этой машине и, наклонившись, всмотрелся. Массивный, тёмный, что был за рулём, шевельнулся.
— Вы свободны? — В ответ он включил чайный свет и поднял фишку на дверце. — Иди, посиди, я сейчас.
— Мне стало весело — на самом деле, зачем нам экспресс. Она вышла из темноты, я открыл дверцу, чуть-чуть прикоснулся к её руке и побежал — на удивление легко, кроссовки пружинили — в полупрыжке, полубоком, вписался между машин закрывавших дорогу.
…Машина рвалась через ночь и разбивала собой лёгкий воздух. Видеть этого столкновения мы не могли из-за высоких передних сидений, но оно ощущалось во всём: в толчках и ударах дороги, в обрывках воздушных потоков, вбивавшихся поверх немного опущенных стёкол. Тени и силуэты деревьев падали и отступали. Могло догнать нас лишь что-то другое — что-то, что двигалось рядом. Мы были вместе, сидели, откинувшись на упругую спинку. Ночь, принимавшая нас возле аэропорта, была за пыльным стеклом, но мы уже больше были не с нею — всё, кроме нас, было просто неважным. Как в свой оставленный дом, мы ехали с ней в этот город, где были ночи зимой, где воздух живой, не жесткий. Она глядела между сидений вперед, где, еле видная между двух тёмных рядов тополей, уходила всё время под ночь серая лента дороги. Я снова взял её руку.
— Мы теперь вместе. — Машина навылет прошла куб голубоватого света — четыре фонаря у переезда создали здесь замерший замкнутый мир — рельсы ткнулись в колёса, свет, на мгновение, залил машину. Я понимал фантастичность того, в чём мы были, но — как лицо невидимки, взгляд, уходящий в ничто, голубоватая кожа. Не местный воздух, с рывком моих нервов, возник, остался со мною. Её рука была восково-гибка. Машина стеклом всё гнала темноту и, как знакомым, кивала деревьям. Тоннель дороги меж двух рядов тополей будто совсем не менялся, мы словно где-то зависли. — Помнишь, зимой, было очень красиво. — Она не отозвалась, она смотрела в стекло, на дорогу. Средневековый наклон головы — сон и в сознании, и в теле. Впереди было слабое зарево, свет фонарей всего спящего города, полурассеяный дымкой. Дорога вскоре чуть-чуть повернула, и показались огни. Тополя слева вдруг оборвались, открылась слабо блестящая чёрная гладь — озеро. Воздух, влетающий через окно, сделался резче, прохладней. Огромный чёрный объём угрожал. Набежал первый горящий фонарь — справа шла тёмная кипень садов, иногда глаз ловил там глухоту тихо спящих домов за полосою забора. Цепь фонарей уже не прерывалась — их свет накатывал, всё заливал серебристым. Теперь она всё держала мне руку — я верил сразу во всё, что хотелось. В себя я верил всегда, но теперь, более, верил во всё остальное.