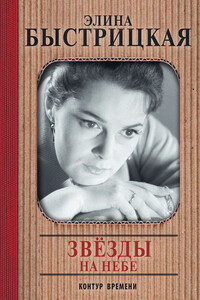Тюремные записки | страница 77
После этого можно было бы думать, что меня все же освободят, но оставалось уже два последних месяца, а документов не оформляли и меня не вызывали фотографироваться. Сосед в пятый раз повторял, как Амальрик, поняв, что его не выпустят, стал договариваться с местным КГБ. Через много лет, прочитав «Записки диссидента» Андрея, я убедился, что никакого соседа у него тогда не было. Впрочем, я и так понимал, что все эти рассказы соседа сочинялись где-то специально для меня.
Но мне было все равно. Я и не ждал освобождения. Любой новый срок был бы лагерным, а не тюремным, то есть почти санаторием для меня. До конца срока оставался уже месяц, но фотографироваться меня не вызывали. Осталось уже две недели — никто меня не вызывает. А я был только рад, что уже два месяца, пусть на самом голодном строгом режиме, но меня не спускают в карцер — в камере гораздо теплее. Через неделю меня по прежнему фотографироваться не вызывают. Сосед уже перестал долдонить об Амальрике. Наступил и последний день, никто меня не вызывал, да и я был совершенно спокоен — убить меня эта шушера, конечно, может, но договариваться с ними я не буду. В десять часов вечера был отбой, мне в этот последний день даже никто ничего не объявил. Я спокойно улегся, заснул, но через час — в начале двенадцатого ночи вдруг начинает меня вызывать и куда-то вести охранник. Они сами себе оставили работу на ночь, фотографировали, выписывали (с ошибкой, наспех 191 статью вместо 1911) справку об освобождении. А в восемь утра повели меня освобождать. Оказалось, что уже накануне за мной приехала мама. Неизвестно, что было бы без нее. Я взял с собой небольшую связку писем — не так уж много их дошло до меня за пять лет. В Верхнеуральск, кажется, одно за пятнадцать месяцев. Обнялся с мамой на ногах я стоял, но отдал ей письма — нести было тяжело.
Дня три меня мама откармливала в Верхнеуральской гостинице, потом добрались как-то до Челябинска и неделю прожили там. После этого можно было ехать на поезде в Москву. Под мерный стук колес, глядя на редкие черные сосны на уральских заснеженных горах, казалось сошедших с японских гравюр, я подводил итоги и Верхнеуральска и всех пяти лет.
Совершенно неожиданно для себя самого (да и для других, в первую очередь для КГБ) я, считавший всегда себя человеком скорее слабым, вдруг оказал КГБ такое жесткое сопротивление, несколько раз оказавшись «у смерти на краю». При этом из рассказов мамы за эти дни о том, как за Томой установили слежку (ее очень обижало, что топтуном периодически был немолодой еврей с интеллигентным лицом), а за мамой — не только слежку, но пару раз ей объясняли, что «она должна повлиять на своего сына», чтобы он менее враждебно к КГБ относился, а одна из «бесед» закончилась тем, что в метро два мерзавца схватили ее под руки со словами — «сейчас бросим тебя под поезд и никто не узнает», становилось ясно, что мой арест был произведен всего лишь для того, чтобы пугнуть, завербовать, а вовсе не для того, чтобы рассчитаться за мою попытку жить свободным человеком в несвободной стране.