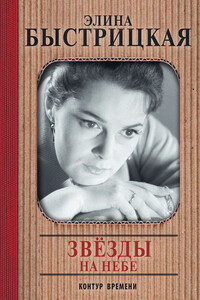Тюремные записки | страница 78
Но из этого следовало, что я был неправ, считая такую относительно свободную жизнь в СССР возможной, неправ, когда под разными основаниями сторонился движения хоть какого-то сопротивления (от Некрасова и всех его знакомых членов КПСС, Солженицына — который лукавит, приспосабливается, делает бригадира — коммуниста положительным героем, СМОГ`истов или Миши Айзенберга, предлагавшего мне издавать подпольный журнал — как от детей, с которыми нельзя иметь дело). Посмотрев на советскую жизнь изнутри, едва не погибнув, мне стало обидно, что просидел пять лет «ни за что», ничего не сделав. Отказ от сотрудничества с КГБ делом мне не казался — был вполне естественным.
Но мне самому стало любопытно, откуда же у меня взялось такое ожесточение в этом противостоянии. И я вспомнил, какое презрение было на лице моей матушки, когда она отвечала на вопросы судьи и прокурора, как многое мне не было рассказано в детстве ни мамой, ни бабушкой (к примеру, об антисемитизме) просто из брезгливости, из их полного неприятия советской власти. Вспомнил, как Константин Юрьевич Чарнецкий (муж сестры моей бабушки) не только не воспользовался никогда преимуществами своего революционного прошлого, но хорошо понимая опасность неизменно помогал семье расстрелянного Ларина и дочери Радека. Вспомнил, как наша с Томой ближайшая приятельница — художница Татьяна Борисовна Александрова, мечтая иллюстрировать детские книги и имея для этого все возможности, чувствовала такое непреодолимое отвращение к редсоветам, парткомам и другим подобным структурам в издательстве, предпочитала идти пешком зимой в снег (на трамвай денег не было) со Спиридоньевки на ВДНХ за мелкими заработками, чем подобно ее не бездарным сверстницам Мавриной и Алисе Порет, способных участвовать в этой советской жизни. Мое абсолютное противостояние, неприятие всех попыток меня как-то купить, со мной договориться о чем-то были на самом деле естественной реакцией этого мира, этой среды, в которой я вырос, ни в чем и никогда не принимавших советской бандитской власти. Об этом даже никогда и никто почти не говорил, так это было естественно, так это было прочно внутри каждого в этом еще сохранившемся в годы моей молодости круге русской интеллигенции. И потому моя абсолютная глухота к делавшимся мне предложениям, а ведь в главном это были не деньги, не дача, не работа в Третьяковской галерее, а сперва — свобода, а потом и жизнь, были внутренне совершенно естественными, я даже ни разу не обдумывал ни одно из них, так это все было чуждо мне, чуждо миру, в котором я вырос.