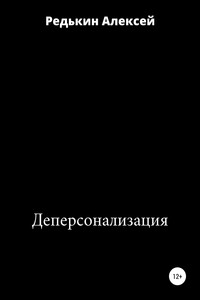Красная верёвка | страница 30
Но самый главный враг девушки — это, конечно, чувство юмора. Обнаружив его в объекте, мужское подсознание моментально подаёт сигнал: «Так, отбой. Это свои». Меж тем дама с кислой физиономией, не реагирующая (а ещё лучше — реагирующая неадекватно) на шутки, подколки и жизнь вообще, подсознательно кажется мужчине образцом Женственности и Загадки — и он расшибётся в лепёшку, только бы проникнуть в тайну этой неприступной крепости. Полной противоположности ему самому (ибо ЧЮ, как ни крути — всё-таки прерогатива мужчин.) Он может сам не осознавать этого, но против природы не попрёшь. Любовь есть разность полюсов!
Фэйс
Всякий раз, проходя мимо зеркала, я не могу стерпеть, чтобы хоть на миг не задержаться на месте и не взглянуть на собственное отражение, не полюбоваться им. И даже не собственно им самим — не думайте, что я такой уж нарцисс, — а незатасканной мыслью о том, как всё-таки украшает человеческие лица старость, с каким тонким вкусом она наносит на них свой несмываемый, вернее любого тату, макияж. Мысль об этом повергает меня ещё на несколько минут в глубокие, но отрадные раздумья.
Все почему-то грезят о молодости, завидуют желторотым юнцам и часто со вздохом говорят — я сам это слышал! — с каким удовольствием они сменяли бы груз своей никому не нужной ироничной мудрости на юношескую свежесть (отнюдь не только восприятия, хе-хе!) — свежесть и красоту. Не знаю. В молодости моё лицо напоминало плохо пропечённый кусок сдобного теста, возможно, аппетитный для изголодавшихся, но не более того. А я хотел быть проявленным, хотел, чтобы извне тоже было заметно, какие бури и страсти клокочут в моей — куда раньше плоти сформировавшейся — душе. Я не метросексуал (подобное мне даже противно), но делать нечего — терпеть было немыслимо, приходилось подкрашивать выданное мне природой лицо, чтоб стать хоть чуть-чуть похожим на себя. Я рисовал себе чёрным карандашом вокруг глаз трагедию, окутывал ресницы комковатой тайной, помидорным на губах расписывал чувственность, на скулах — снедающую меня внутреннюю лихорадку. Получалось очень похоже, люди, во всяком случае, верили.
Но шли годы, и юношеские проблемы макияжа — кстати, весьма раздражавшего чувствительную к инородным воздействиям кожу — отпадали одна за другой, словно осенняя листва. Лихорадочность оттенков с лихвой заменили две зачаточные, но вполне выразительные складки на лбу, прекрасно обозначившие основную черту моей личности — непрестанное мучительное беспокойство. Старость проложила под глазами и (позарез нужные там) тени — такие красивые, коричневатые, для которых раньше я с переменным успехом подбирал, да так и не смог окончательно подобрать нужный тон в длинном переходе от метро к Павелецкому вокзалу. Хе-хе. А кстати — личико с годами слегка завострилось и, в общем, скульптура личности в кои-то веки отправила на отдых живопись, от которой у меня к тридцати годам всё равно уже развивалась мучительная аллергия, какую бы раскрученную марку я не приобретал в понтовом магазинчике у «Марксистской». И ненужная более косметичка благополучно упокоилась в холодильнике до особо торжественных — впрочем, почти никогда не происходящих — случаев. Разве что седоватые брови я для выразительности всё ещё подкрашиваю раз в неделю «Локолором», но! это ж стойкая краска, а не карандаш для бровей, на весь день дающий и без того измученному лицу ощущение волглой корки над святая святых — глазами.