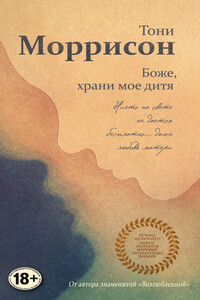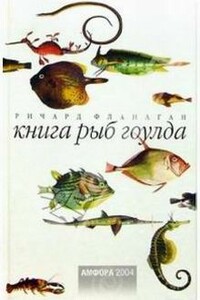Первое лицо | страница 78
В последние два дня второй недели, пока Хайдль пустословил и тянул время, я будто взвалил себе на спину и плечи тяжелейший груз и напряжением всех сил заковылял вперед. В моменты приливов оптимизма мне даже казалось, что я справлюсь. Теперь я почти не записывал слова Хайдля. Для этого я слишком медленно печатал, да и что толку было фиксировать его бормотанье? Меня все меньше и меньше интересовало содержание его речей, и я сосредоточился на их форме. Чтобы только дотянуть количество слов до установленной планки, я впитывал его голос, схватывал музыку телефонных переговоров, улавливал странные синкопированные предложения, которые мог бы поставить на арочный контрфорс, чтобы уравновесить придаточные, способные выдержать тяжесть фразы, и постепенно заполнять страницу придуманными абзацами. Моя проза начала приобретать новые формы – с аллюзиями и иллюзиями фразовых арок, составленных из двух противоположных косвенных вопросов, уходящих в пустоту: Быть может, поведай я вам то-то и то-то, или же, возможно, упомяни я то-то и то-то…
Это были арабески абсурда, но не лишенные музыкальности. Почти джазового звучания. Он был Телониусом Монком, а я лишь топтался рядом, подыгрывал, отбивал такт и добавлял ноты, до которых он не снисходил; я был нужен для придания ему цельности. В свете этого я почувствовал, что абсурдная цифра 3571 пробуждает у меня изобретательность, какая мне и не снилась при работе над романом.
Но теперь ясно, что в течение всего этого времени, когда я считал, что просто копирую тон, улавливаю ритм, в меня врастало нечто большее. Ведь я перенимал у него не столько внешние проявления, сколько силу внушения, мастерство уклончивости, способность отделываться одним-единственным фактом… скорее даже слухом об одном факте… и предоставлять читателю додумывать остальное.
Сам того не сознавая, учился я и отвлекать читателей от истины, и развлекать, и льстить игрой на их воображаемых достоинствах, на идеях добра и порядочности, а сам уводил их все дальше во враждебную тьму реального мира и, возможно, во тьму их душ, а в отдельных случаях, страшно сказать, во тьму моей собственной души.
И чем больше я проводил с ним времени, тем яснее видел фальшь каждой улыбки, каждого жеста и день ото дня все больше страшился. По пути домой, за рулем «Ниссан Скайлайн», я вздыхал с облегчением, что наконец-то уношу ноги из нашего кабинета и от него самого, но в действительности вовсе не удалялся, потому что, оказавшись у Салли, первым делом бежал под душ, до отказа поворачивал краны и в очередной раз опустошал бак, стыдясь признаться, что просто-напросто пытаюсь отмыться от Хайдля. И каждый вечер, думая, что отмылся, я испытывал заблуждение. Ведь он проникал в меня, и я не мог этому противостоять. Нутром, конечно, чуял, а как же иначе? Но не противился, поскольку он проникал в меня посредством слов, и с каждым из этих слов во мне оставалось все меньше меня самого. Я сорвался с якоря и вновь несся по воле волн. Только на этот раз сам того не ведал. Впустил его в себя, даже не подозревая об этом, а вот Хайдль с самого начала все знал.