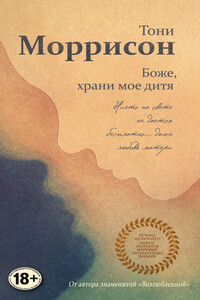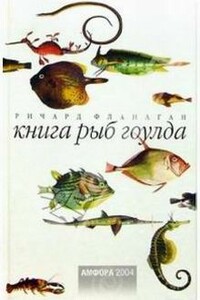Первое лицо | страница 149
Я впервые увидел вытянутые в длину пригороды, исследовал киоски, торгующие фалафелем, кофейни и вьетнамские ресторанчики, пекарни и продуктовые магазины, подле которых пестреют цветочные букеты в ярких пластмассовых ведерках, – и ни о чем другом не думал. Я проезжал мимо пляжей и пальм, вторгался в менее живописный деловой мир индустриальных парков, безлюдных и беззвучных, которые сменялись тихими фермами и прерывистым бушем, а восходящее солнце уводило меня в сторону от шоссе, на проселочную дорогу, и через несколько часов пути – на гравийную подъездную аллею заброшенного сада, где из выветренного грунта торчат кустарники, словно пружины и конский волос из дырявого дивана.
Я не узнавал себя в том человеке, что сейчас выходил из автомобиля навстречу Хайдлю, стоящему у большого дома из белого кирпича постройки 1970-х, низкого, как оговор, с бурыми рамами и черепичной крышей цвета вяленых апельсинов; этот приезжий с улыбкой говорил хозяину, что жаждет поработать с ним у него дома.
Подле моей лодыжки возникло какое-то шевеление, я посмотрел вниз и увидел голубоватую сиамскую кошку: та, выгнув спину, терлась о мою ногу и мурлыкала. Хайдль, который в моем присутствии почти никогда не прикасался к людям, положил руку мне на спину и не спешил убирать. Он с улыбкой отметил, насколько мы похожи.
А поскольку соглашаться полезно, я с ним согласился. В конце-то концов, разве мы оба мало-помалу, через все стычки и пререкательства, через необходимость работать бок о бок, не начали меняться? Разве постепенно не сблизились даже внешне, как колонизатор и коренной житель? Можно было подумать, что дверь, в которую я ломился всю жизнь, внезапно распахнулась и я, шагнув за порог, упал в бездну. Вероятно, я как человек отдавал что-то, присущее только мне, в обмен на нечто другое, свойственное писателю, лишаясь части своего достоинства или гордости, а то и чего-то большего. И неважно, что это… во что я превращался… но тем утром в Бендиго этот обмен производил впечатление потенциально успешного.
Поскольку мы снова закорешились… – начал Хайдль.
Немецкий акцент, приобретенный неведомо где, отдавал шипением, не свойственным австралийской манере речи; губы Хайдля изгибались змеей: закореш-ш-шились. В 1980-е годы слово кореш, как и многое другое, незаметно переиначилось. В нем теперь читался подтекст не то соучастия в преступлении, не то скрытой угрозы, не то разделенной вины. Точно сказать не берусь, но что-то нехорошее. Зато шипящие согласные меня уже не трогали. Впервые за все время я уловил в Хайдле какую-то непринужденность, едва ли не безмятежность.