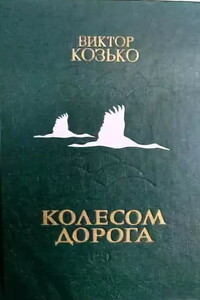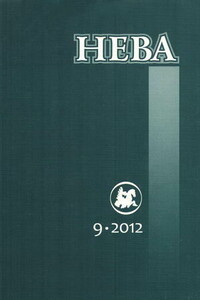Никуда | страница 16
Одно надоело — принудительно играть в прятки. Хочется больше света, солнца. В укрытиях темно, скучно и одиноко. Сумрачно, холодно и голодно, как и здесь. В доме слабым притушенным огоньком мерцает коминок. Я согреваюсь, зная, что в нем печется картошка, одна, небольшенькая. Слышу ее запах, вижу, как, подгорело морщась, стягивается ее кожица. Так же утягивается кожа и у меня на животе. Мы с сестрой сидим на полатях у коминка и не сводим глаз с робкого в нем огонька и того, что в золе под ним.
Но мама вторгается в наше ожидание и надежду. Отсаживает от огня, поднимает с полатей и вскидывает на печь, на голую черень. Черень, как и печь, холодная. Печь давно не протапливали. Сестра сидит послушно и тихо. Наверно, бережет назапашенное на полатях тепло. Я же кручусь, ползаю по печи, а вскоре начинаю тихо всхлипывать, повизгивать, как слепой щенок в холодной будке. Но проделываю я это совсем не от холода. В голове у меня и перед глазами картошка. Я вижу ее нисколько не слезно, сухими глазами, отчетливо и жадно. Неподвластные мне всхлипывание и повизгивание крепнут, перерастают в протяжный и довольно противный вой. Я слушаю себя и, не спуская глаз с картофелины, слежу за мамой в полумраке полатей. На мгновение умолкаю и начинаю опять, уже громче и обиженно. Вызывающе.
Наконец мама не выдерживает. Сбрасывает с себя хламиды, в которые до этого была закутана — дерюжки, постилки, прожженный солдатский бушлат, и словно из норы или берлоги, поднимается со своего лежбища на полатях, торопливо бросается к печи. Первой, почти ласково, снимает и сажает на полати сестру, прислонив головкой к припечью, на вынутую кирпичину, под ноги ребенку, если он вздумает сам взобраться на черень. Обеими руками, похоже, зло хватает меня и швыряет на полати поодаль от сестры.
Я не в обиде на нее. Доволен, добился своего. Перед глазами у меня суетливо прыгает по углям почти погасшее пламя. Мама ставит ногу в детскую щель в печи и устраивается на черени, где только что мерзли мы с сестрой. Там еще, наверное, сохранилось наше безнадежно тоскливое дыхание.
Я доволен. Я счастлив со всех сторон. Явственно ощущаю во рту, всем телом запах, съедобный дух наверняка уже готовой рассыпчато и жарко испеченной внутри картошки. Дышу им и насыщаюсь. На всем белом свете не сыскать ничего лучше запаха испеченной в золе картошки. И я в предвкушении полнюсь им до кончика оледеневшего носа, так что теряю себя, заходясь от тепла и ласки синенького тумана, в котором младенчески пребываю. И в это самое счастливое мгновение в моей жизни происходит самое страшное. И непоправимое.