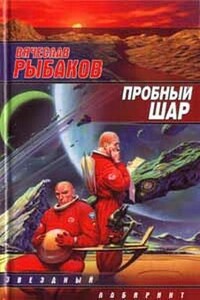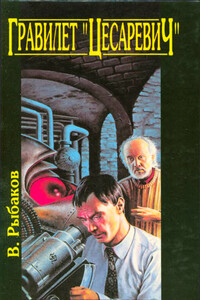Резьба по Идеалу | страница 88
Людям, наиболее успешно воспитанным в русле означенных воззрений и затем отфильтрованным неким высшим начальством по неким неведомым критериям, — и вверяются управленческие функции.
А чтобы стремление стражей приносить благо обществу никогда не поколебалось бы, им нещадно обеспечивается полное бескорыстие. То, что частнособственнические мотивы являются главным искусом для слуг народа, было понятно уже во времена Платона
«…В образцово устроенном государстве жёны должны быть общими, дети — тоже, да и всё их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия… Ни у кого не будет ничего собственного, но всё у всех общее. …Никто не должен ничего приобретать…»
«…Они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения…»
«Прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. …Им… не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство».
Кто бы объяснил, однако, что имеется в виду под «крайней необходимостью» иметь собственность, каковы критерии этой необходимости, какие инстанции полномочны их применять и в каких пределах частной собственностью согласно этим критериям наделять? Налицо ещё одна широчайшая лазейка для произвола и того, что ныне называют коррупцией.
Кто бы объяснил, на худой конец, как реально обеспечивается вроде бы простенький с виду запрет «даже прикасаться» к золоту и серебру?
При всём том дальнейшие характеристики общественной жизни окончательно сводят к нулю все прежние, вполне, казалось бы, здравые и практичные апелляции к братству, к семейному старшинству и младшинству, равно как и к старательной охране всего комплекса этих связей и отношений силой эпического искусства.
«…Всякий будет называть своими сыновьями и дочерями мальчиков и девочек, родившихся на десятый или седьмой месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом; их потомство он будет называть детьми своих детей, а они, соответственно, будут называть стариков дедами и бабками, а всех родившихся за то время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сёстрами и братьями…».
«Ну, а как же у твоих стражей? Найдётся ли среди них такой, чтобы он считал и называл кого-нибудь из сотоварищей чужим? — Ни в коем случае. С кем бы из них он ни встретился, он будет признавать в них брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей либо дедов».