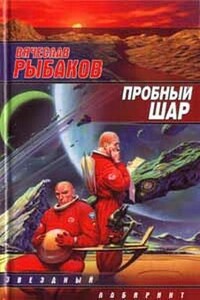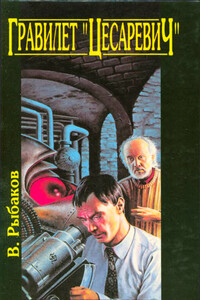Резьба по Идеалу | страница 81
Однако мечта, вполне уже обретшая жутковатые конкретно-организационные характеристики, не умирала в течение многих веков. Будучи вместе со всей европейской культурой трансплантирована в Россию, где, тоже по совершенно объективным географическим и историческим причинам, доминировало государственное регулирование, общинное сознание и идеал гармоничного общежития в религиозном единомыслии и экономическом единстве, именно она на новой, куда более благоприятной, нежели европейская, почве породила грандиозную и чудовищную попытку угнаться за исстари бродившим по Европе призраком и заставить его служить людям.
Роль управленцев
Зададимся на первый взгляд диковатым, но донельзя актуальным вопросом. Почему в Утопии завскладами не воруют, а в Городе Солнца медики, ответственные за подбор сексуальных партнёров, не утопают в подарках и подношениях?
В отличие от азиатских империй, средиземноморская цивилизация со времён самой архаичной античности и до относительно недавней эпохи становления национальных государств практически не сталкивалась с проблемами развитого, разветвлённого, живущего своей весьма особой жизнью управленческого аппарата. Все возникавшие за несколько тысячелетий властные, что называется, вертикали в основном сводились либо к немногочисленным выборным должностям полисов с их совершенно незначительным низовым техническим персоналом, либо к горсткам вольноотпущенников при римских императорах, либо к относительной вольнице феодальных иерархий, обслуживаемых не более чем челядью. Все эти вертикали строились либо на личной ответственности перед избравшими управленца членами его общины, либо на всякого рода персональных клятвах верности, личной преданности вассала сюзерену, личной зависимости мелких чиновников от крупного, поставленного у власти верховным владыкой тоже на чисто персональной основе.
Может быть, именно поэтому европейские авторы идеальных моделей общественного и государственного устройства столь единодушно и столь безбоязненно вверяли целым сонмищам управленцев дотошную, мелочную, каждодневную регламентацию общественной и частной жизни.
Если присмотреться более пристально ко внутреннему устройству миров Платона, Мора и Кампанеллы, то поражают прежде всего сугубая зарегулированность их моделей и, соответственно, постоянные ссылки на тех, кто это регулирование призван был осуществлять.
Платон то и дело поминает «стражей». У Томаса Мора это некие «сифогранты» и «траниборы». Кампанелла не мучил неологизмами ни себя, ни читателя, но едва ли не в каждой его фразе упоминаются «начальники и начальницы», «должностные лица», а то и просто «маститые старцы со старухами».