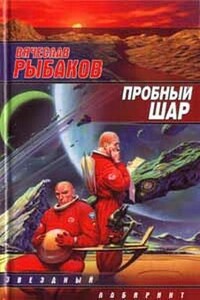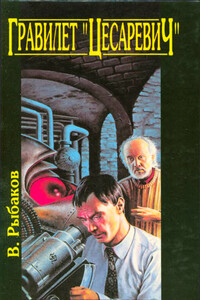Резьба по Идеалу | страница 46
Как только благополучие достигалось, неизбежно стартовал процесс его персонального и группового дележа. Он приводил к эрозии внематериальных побуждений. Модным и престижным становилось купечество и купеческое, товарное отношение к миру. Чиновничьи должности из объекта духовного, честолюбивого вожделения, стимулирующего лучшие человеческие качества, делались объектами купли-продажи. Нарастал индивидуализм. Большинство старых, якобы отживших ценностей превращалось в мишени для безудержной иронии.
Следствием всего этого оказывались нарастание сбоев в государственной экономике, ухудшение жизни, регионализм тут же усиливавшихся местных владык (каждый за себя, с проблемами будем справляться сами, спасайся, кто как может) и в итоге — распад страны и вымирание от голода и хаоса миллионов, а то и десятков миллионов населения.
И, обжегшись на, казалось бы, прагматичных, всем удобных, находящихся в полном соответствии с человеческой природой эгоистичных мотивациях, счастливо не требующих для своего поддержания ни идеологических монополий, ни религиозного диктата, ни государственного насилия, народ Поднебесной вновь жадно устремлялся к учению какой-нибудь воинственно неиндивидуалистической, так и тянет сказать — оголтело коммунистической секты, вроде, скажем, «Жёлтых повязок». Та поднимала его в бой за идеалы — и либо в обозе бушующих крестьянских орд, либо как долгожданный избавитель от многолетней борьбы всех против всех к власти приходила новая династия. А она, не разделяя, разумеется, экстремистских воззрений, послуживших взрывным запалом для начала нового цикла, тем не менее снова делала однозначную ставку на бескорыстных и трудолюбивых, то есть на тех, кого снова, в который раз, в ответ на индивидуалистический бардак одурманили иллюзии и грёзы коллективизма и социальной порядочности. Экономика, лежавшая в руинах, постепенно начинала работать — и процесс повторялся сызнова.
Но бескорыстным добросовестным цзюньцзы откуда-то надо же было браться!
Китайский пример и, в первую очередь, его длительность, протяжённость от архаики до современности доказывает интереснейшую вещь.
Общество любой страны, в любую эпоху, коль скоро в силу внешних обстоятельств или внутренних причин государственный сектор её экономики несёт на себе достаточно тяжкое и внушительное бремя, обязано и просто-таки обречено оставаться в значительной мере традиционным.
То есть всеми правдами и неправдами оно вынуждено сохранять такое состояние духа, культуры, общественных стимулов, когда значительная часть населения ориентируется на какие-то общие для всех непрагматичные априорные ценности. Которые могут быть, что греха таить, только религиозными. Или — квазирелигиозными. Например, советский коммунизм, помесь обетованных млека и мёда с колючей проволокой — обезвоженное, расхристанное христианство православного толка. Или воспалившийся за какие-то три десятка лет ветхозаветно свирепый, нетерпимый и мстительный демократический фанатизм современной Америки, которая до середины прошлого века знать не знала русской дозы «общих дел» и потому впрямь наслаждалась патриархально-либеральной свободой, упивалась мирным вином из одуванчиков — но своей волей взвалила на себя чудовищное бремя мирового светоча с пулемётом, а с этой ролью реальная свобода оказалась несовместима.