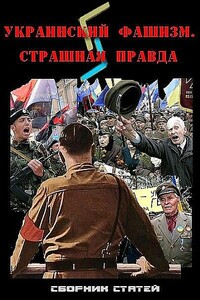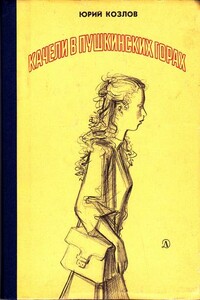Малый круг | страница 114
Впрочем, только недавно книги показались Фоме умными солдатами. Когда ему было девять лет и он начинал читать — лихорадочно, безостановочно, без разбора, до черноты в глазах, до болезненного нервного пульсирования в висках, — само понятие «бог», столь часто встречающееся на страницах, открылось ему не в облике желто-зеленого, иссеченного, снимаемого с креста Иисуса или благообразного карикатурного старца, расположившегося на облаке, как на диване, и уж конечно не в виде загадочного святого духа, но в виде книги. Бог — это книга. Это он — многоликий, многоязыкий, разностильный — укрылся под картонными обложками, чтобы выходить оттуда к людям. Однако далеко не под каждой обложкой находился бог. Книга, стало быть, была не столько самим богом, сколько предполагаемым его домом, вместилищем. Но лишь предполагаемым. Порой он оставлял пустыми шикарные глянцевые апартаменты, солидные переплеты, предпочитал селиться на бедных зачитанных страницах. Похоже, ему претило все богатое, создающее отличие. Фома подумал: книга, вне всяких сомнений, может быть домом бога. Но самому богу тесно быть одной лишь книгой. Бог может быть только истиной, на которую отзывается сердце.
Случалось, разглядывая книжное воинство, Фома испытывал что-то похожее на удушье. Книги не расширяли умственный горизонт, напротив, занавешивали его вовсе. Любая мысль, явившаяся Фоме, уже была где-то высказана, доведена до логического абсолюта. Куда бы ни сунулся Фома, везде услужливые мудрые кроты прорыли туннели. С одной стороны, все в жизни было мысленно прожито, известно наперед. С другой — жизнь изумляла полнейшей неясностью, коварной непредсказуемостью. Зачем, к примеру, Фому недавно избили на ступеньках собственного подъезда? Какое отношение это имеет к процессу познания? И хоть умом он понимал, что по ошибке могут не только избить, но даже убить, душа восставала против подобной бессмыслицы.
Неожиданно Фома догадался, что именно не дает ему покоя в последнее время, заставляет глазеть из сумеречной комнаты на брошенный храм, прохаживаться вдоль изменчивого книжного воинства, перетряхивать в памяти события не столь уж долгой шестнадцатилетней жизни, пытаясь отыскать в них хоть какой-то смысл. Две идеи, два созревших, но по какой-то причине не упавших яблока томили Фому. Он пресытился отрицанием. С тех пор как два года назад его лучшим другом сделался Липчук, в мире, казалось, не осталось ничего, что бы они не осмеяли, не подвергли злобному ироничному разбору. Отрицание — вот незримое вещество, скреплявшее до недавнего времени их компанию: Фому, Липчука, Антонову и Солому. Фома сам не заметил, как отпал. До конца того не сознавая, он держался в компании через силу, лепился, будучи осколком, но всякий самообман имеет предел. И второе — поприще. Когда-то старинное это русское слово было исполнено для Фомы трепетного священного смысла. Никто не вел с ним бесед, не внушал благих мыслей, просто как-то само собой подразумевалось, раз здесь родился, живешь, думаешь, говоришь по-русски, значит, должно быть поприще, значит, должен приносить пользу Отечеству. И хоть Фома пока не ведал, что это будет за поприще, была непререкаемая уверенность, что он отдастся ему со всей страстью. А вот потом эта уверенность канула. В мире отрицания понятия Отечества, поприща казались такими же наивными и устаревшими, как барочная кружевная тень среди прямых евклидовых линий. Понятия Отечества, поприща в этом мире органично соединялись с понятием собственного материального благополучия. Липчук, в отличие от Фомы, не видел ничего противоестественного во всеобщем муравейном стремлении к благу, презрении к Отечеству. Фома видел. Хотя бы то, что многие его представления вдруг оказались неуместными. Фоме никто не верил. Или смотрели на него как на идиота. Иногда его посещала холодная и ясная, как луна, мысль: Липчук прав, мир не изменить, надо меняться самому, пока не поздно.