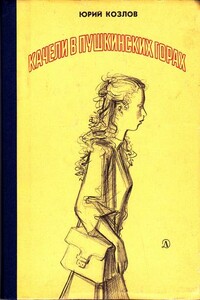Малый круг | страница 113
Зато потом наступало бессилие, все валилось из рук. Фома часами смотрел в окно. Спроси кто, в чем дело, он бы не сумел объяснить. Жизнь в очередной раз входила в конфликт с представлениями Фомы, навязывала ему собственные унизительные варианты. Оскверненное насилием существование приобретало вынужденный, рабский характер. Бессилие порождало бессмысленную, направленную неизвестно против чего ярость. Фома боялся этой ярости, когда несправедливое, обидное или кажущееся таковым слово, какой-нибудь другой пустяк могли привести в неистовство. Он терял рассудок. В эти мгновения Фома, вероятно, был непобедим, мог сражаться с сотней. Да только не было никакой сотни. Фома опасался этой ярости не ко времени.
А недавно Липчук небрежно заметил, что резкие перепады настроения — есть одна из форм деградации личности. Фома не мог с ним не согласиться. Он решил сделаться оптимистом, невзирая на повсеместное несовершенство жизни, на ветер насилия, который в любую секунду мог бросить на четвереньки, от которого не обороняла безумная запоздалая ярость.
Фома пришел к выводу, что само по себе несовершенство человеческой жизни не может являться причиной депрессии, равно как невозможность прочитать все книги на свете не должна вызывать отвращения к самому процессу чтения, отвращать от книг. Так он вступил на путь самопознания. Отныне Фома смело анализировал свое настроение, преодолевал кичливые капризы, вторгался в запретные прежде по причине тщеславия пределы, беспощадно разгонял книжных призраков и в конце концов доискивался до истинных причин неудовлетворенности и смуты. Какими же мелкими, недостойными иногда они оказывались! Дело, стало быть, заключалось не столько во вселенском несовершенстве, веющем над миром ветре насилия, сколько в самом Фоме. Он — человек — носил в себе вселенское несовершенство как второе сердце.
Воздух в комнате сделался синим. Для четырнадцати квадратных метров мебели здесь было в самый раз: кровать, письменный стол, жесткое кресло, два старых книжных шкафа, сдвинутых у стены. С одного шкафа в окно смотрела гипсовая голова Аристотеля. Стагирит вперял пустые глазницы в забытый храм на другом берегу канала. Они были одинакового цвета — храм и Аристотель. С Аристотеля пора было смахнуть пыль. Казалось, Стагирит натянул на уши пуховую лыжную шапочку.
Книги стояли также на стеллажах в коридоре. Старинных фолиантов было немного: шесть томов Брокгауза да неизвестно откуда взявшийся «Путеводитель к совершенству жизни христианской» с двумя записями на титуле: «Книга изъята из церкви Хотиловской 1939 года второго августа. По ликвидации богослужебной утвари, а также всех книг» и красным дрожащим карандашом поверх «Прошу книгу нервать, береч». Золотое мерцание корешков, таким образом, не согревало взгляда. Но все равно Фома любил прохаживаться вдоль шкафов и стеллажей. Он казался себе самозваным генералом, неожиданно заполучившим армию умнейших, превосходящих его во всех отношениях солдат.