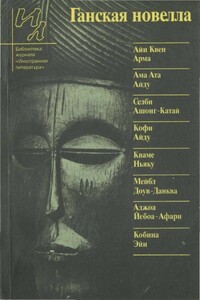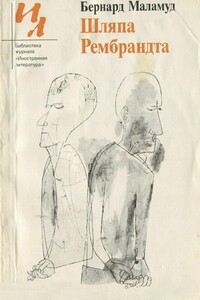Вдова села | страница 11
— Только не эту, — запротестовала я, — я ее читаю.
— Ты же уроки готовишь.
— Я уже закончила.
— Сейчас я тебя проверю.
— Проверяй.
— Прочти все еще раз.
Пока мы препирались, дядя Мишка сунул книгу в карман.
— Ну что ж, золотце, я ее беру, — ласково сказал он.
— Не надо, я сегодня дочитаю, а завтра вам отдам.
Тут вмешалась мать:
— Конечно, забирай, Мишка, а то она до полуночи читает, а утром ее никак не добудишься.
У меня больше не было сил продолжать спор, умолять. Когда по отношению ко мне допускалась подобная вопиющая несправедливость, и главное, со стороны тех, кого я любила, меня как будто разбивал паралич. Это было нечто вроде душевных судорог, у меня отнимался язык, путались мысли, снять оцепенение можно было только слезами. Пряча лицо, я выскочила из теплой кухни на холодный ночной воздух и, прислонившись спиной к стене дома, глотая слезы, стала размышлять о том, что всегда прав тот, у кого нет никаких прав. В голову мне приходили мысли, сопровождаемые таким сильным физическим чувством ненависти, что я готова была убить своего обидчика. Озябнув и немного успокоившись, я вернулась на кухню. На пороге я услышала резкий голос соседа:
— От этого ее надо отучать, иначе ей нелегко придется в жизни.
Эта фраза, помнится, меня утешила. Если все время разговор шел обо мне — совсем другое дело. Тогда пусть дядя Мишка забирает книгу.
Наша мать не любила книги. Она их ненавидела. Ненавидела, как и все, что отвлекало нас от единственной цели и смысла жизни — от работы. Даже когда книги не отрывали нас от дела, например зимой, ведь длинными вечерами мы все равно убивали время, слоняясь из угла в угол, играли в карты, даже тогда, по ее мнению, книги отвлекали нас. По мнению матери, в нас не было прилежания, свойственного настоящим крестьянам, мать считала: оно и не могло быть у людей, занятых целыми часами таким бесполезным делом, как чтение. Сама она, кажется, не прочитала ни одной строчки. Зимними вечерами, когда мы, все восемь, теснились у стола, читая при свете пятнадцатисвечовой лампы, она в другом углу кухни хлопотала у плиты, ставила заплаты, ощипывала курицу, словом, работала в одиночку. И с каждой минутой в ней росло раздражение ко всему легкомысленному семейству, а потом, когда было еще очень рано, часов восемь-девять, она резко вскакивала:
— А ну-ка, дети, быстро спать!
Для нас это была самая горькая минута. Из мира грез нас возвращали к реальности, причем резким рывком, без всякой подготовки, это было даже тяжелее, скажем, чем рано утром подниматься с постели. Спать нам еще не хотелось, лично я бывала возбуждена, после целого дня уныния и тупого безделья я оживала, читая книгу, как будто впечатление от прочитанного непосредственно влияло на мою нервную систему, минуя органы чувств. И вот в таком состоянии надо было ложиться в постель, ворочаться без сна, бесполезно напрягать воображение во тьме, а не нестись на крыльях фантазии вслед за героями книг, да, это было тяжелее, чем вставать на рассвете.