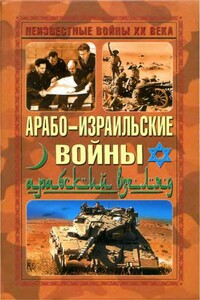Французская военная миссия в России в годы Первой мировой войны | страница 115
Если майор Шапуйи, убеждённый в цивилизаторской миссии Франции (и шире — Европы) и капитан Садуль — представитель «партнерского крыла» представляют точку зрения, основанную на необходимости взаимодействия и возможности диалога с Россией (разве что с разной степенью самостоятельности русских), майор Ланглуа последовательно проводит идею понимания русского пространства как перманентно ксенофобского, скорее нуждающегося в преодолении; данные настроения, по его мнению, значительно усилились с началом войны. Майор Ланглуа с 1915 года периодически отмечает «пассивность русского человека», называет его характер «оборонительным» и рассматривает русского как «безразличного к движению» (он идёт вперёд или назад по приказу командира, а не по некоему внутреннему «убеждению», «мотору»)[629]. Ощущение России также проявляется в попытках найти в стране восточные черты: «Россия со многих точек зрения немного азиатская, питающая ненависть к иностранцу»; в 1917 году Россия рассматривается как «страна с восточным типом взаимодействия» (по крайней мере, в отношении французов). Развивая свою мысль, Ланглуа приходит к выводу, что основным инструментом такого взаимодействия является «шантаж», характерный для политического и военного истеблишмента Российской Империи в отношении представителей Антанты и её руководства[630].
Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что французские военные рассматривали «русский характер» и «русскую цивилизацию» как некое препятствие на пути к налаживанию продуктивного взаимодействия и понимания друг друга; «русское пространство» было тем непреодолимым и «непонимаемым», что заставляло союзников-французов (скорее всего, неосознанно) оперировать характерными для европейской цивилизации клише — «миссионерство Европы», «восточный тип взаимодействия» в России, и т. д. Они как бы «преодолевали русское» (или желали его «переработать») ради сохранения целостности Восточного фронта.