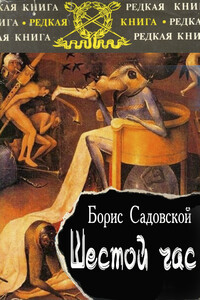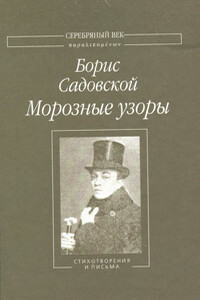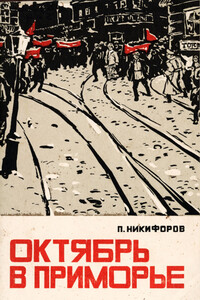Бурбон | страница 18
- Эх, брат Петр Иваныч,- сказал он, почесавши за ухом,- убьют меня завтра господа.
- Ну, не говори, еще неизвестно.
- Убьют, беспременно убьют, вот поглядишь сам. Эх, жисть! И тут тебе незадача. Только было в люди вышел, офицер, этта, и всё, мне бы дураку в отставку, так нет: жадность одолела. Дослужусь, мол, до эскадронного. Вот те и дослужился.
Пискунов молча сопел.
- И чудно эфто, Петя: сколько годов я деревни не видал; забыл, стало быть, вовсе мужиц-кую нашу жисть, как и что. Да оно и некогда: зимой в казарме, летом на траве, всё служба да служба. А тут, намедни, как он меня хлестанул и пошел, этта, я из рощи, встречь мне ровно бы дымком, знашь, потянуло маненько, курным дымком. Тут я всё и вспомнил. И деревню вспомнил, и улицу, вот как на картинке: журавец, этта, и бадья, стадо гонят, ну, вот тебе всё до малости, как есть. И еще вспомнил, как матка, бывало, под праздник блины яшные пекла, и так мне блинов эфтих самых захотелось, знашь, с конопляным маслом, горячих. У нас ведь в Лукояновском всё конопля, и дух от нее чудесный, по полям так и плывет и плывет... Петь, а Петь?
- Ну?
- Прощавай покуда. До завтраго. Ты у меня эфтим, как его... секу... секундором-то будешь?
- Сикундатом? Я, а то кто же? Ты спать?
- Высплюсь, пораньше встану. Как еще Бог поможет. Так не робить, что ли?
- Чего робить? Для виду всё. Пальнете мимо по разику, а там и рапорт твой полковник честь честью примет. Балуются господа.
Евсей Семеныч распрощался с товарищем, но не до сна ему было. Не то зашевелилось у него в уме. В три минуты по темным задам, где в росистой крапиве кузнечик оглушительно трещал в самые уши и охали сычи, мимо взлаивающих пугливо сторожевых псов, бегом спешил Мокеев к фершалову домику, перемахнул плетень и, крадучись под забором, подступил к заветному окну. Он не обманулся в ожидании. Маша у окошка глядела на голубую холодную луну и вздыхала, слушая запоздалого комара, напевавшего ей уныло. Увидя жениха, она вздрогнула, но не отвернулась.
Заплясавшие непослушно губы не сразу дали бурбону заговорить.
- Ма... Маша... Марья Степановна.
Евсею Семенычу всей душой хотелось сказать много хороших слов, но язык, неповоротли-вый, как колода,- бурбонский язык,- понес свою чепуху:
- Дозвольте объясниться. Как ежели я посмел вас беспокоить, то не иначе как в сем приятном упованьи...
Бледные губы Маши открылись, и бурбон услыхал:
- Подлец ты постылый, рябая рожа. Ненавижу я тебя, будь ты проклят, анафема.