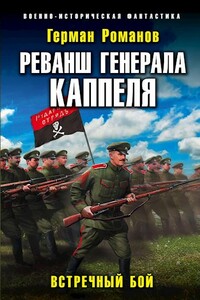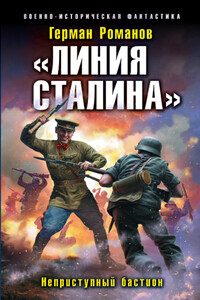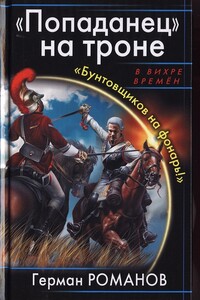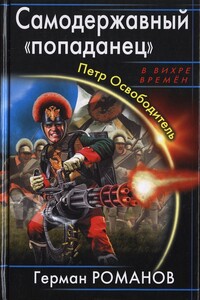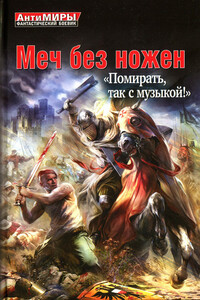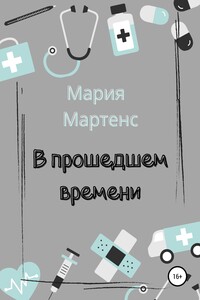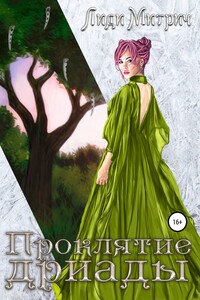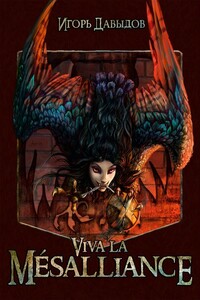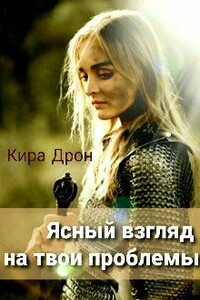Тайна генерала Каппеля | страница 48
И непроизвольно вздрогнул, когда заметил пристально смотрящие на него с открытой насмешкой серые глаза…
Чита,
главнокомандующий войсками
Российской Восточной окраины
генерал-лейтенант Семенов
В такой растерянности Григорий Михайлович еще никогда не пребывал – белое движение гибло прямо на глазах, а он ничего не мог сделать. Да и никто на его месте не смог бы противостоять накатывающим свирепым прибоем штормящего моря событиям.
Сегодня телеграф принес ему ошеломляющее известие о перевороте во Владивостоке. К власти там пришло Приамурское земское правительство, набранное из той же «общественности», что и почивший недавно иркутский Политцентр. И, судя по растерявшемуся японскому офицеру связи, для восточных союзников это было так же неприятно удивившим явлением. Гадать не нужно – чехи и американцы даже не скрывали свою весомую роль во вчерашнем событии. Они как заведенные делали ставку на «демократию» и при этом прекрасно понимали, что та, будь это приснопамятный Комуч или Политцентр, не может противостоять крепнущим каждый день большевикам и скорее рано, чем поздно, сменит свой «розоватый» цвет на определенно красный, без всяких оттенков.
Дальше дурные новости посыпались как из рога изобилия, словно желая окончательно сломить волю к продолжению борьбы. На станцию Верхнеудинск прибыли поезда главнокомандующего союзными войсками Жанена и командира чехословацкого корпуса Сыровы. Атаман Семенов быстро сложил один к одному, Иркутск и Владивосток, и результат получался самый скверный – в Забайкалье «союзники» явно готовятся провести нечто подобное. А сила у них есть – эшелоны с вооруженными до зубов частями 2-й чешской дивизии растянулись тонкой кишкою от Байкала до Маньчжурии.
Противопоставить чехам ему нечего – все части задействованы, большую угрозу представляет район города Сретенска. Партизаны стягивают туда большую часть своих сил, а они у них немалые. У красного вожака Журавлева семь полков кавалерии, в каждом от пятисот до тысячи двухсот шашек, то есть почти по полному, немыслимому сейчас довоенному штату, а казаков в них много. В белых казачьих полках едва по три-пять сотен станичников, никак не больше.
Дело в том, что 70 лет назад, когда было сформировано казачье войско, в его 3-й и 4-й отделы вписали в казаки в большом числе ссыльнокаторжных поселенцев и крестьян, и оказачить их потомков воинским духом не удалось. Да что там – еще 20 лет тому назад эти «сынки» (так их презрительно называли родовые казаки 1-го и 2-го отделов) служили пешими в батальонах, и лишь после китайского похода их заставили пересесть на коней. А посему два года назад значительная часть нерчинских и аргунских станичников пожелала добровольно расказачиться, не желая нести тягот. Вот и сейчас эти самые «сынки» массово перешли в партизаны и, что самое плохое, потянули за собою ослабевших духом и потерявших веру своих соседей – природных казаков, чьи пращуры еще с легендарным Ермаком пришли в Сибирь.