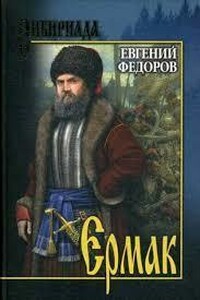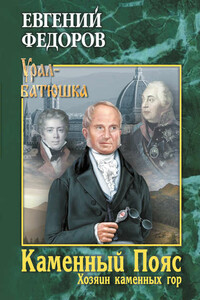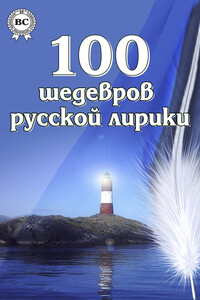Ровесники: сборник содружества писателей революции "Перевал". Сборник № 2 | страница 86
И махал руками перед лицом деда.
— Галманы, ай нет? Нет, — они на колено любют ломать!
Грозил на густую стену леса, колотя дубиной по пням.
— Я дозна-а-юсь, так вашу! Шкуру смою!
— Не узнают может, наплевать.
— Как не узнают? Дорога-то, — вот она? Завтра заведующий поедет, ай нет? Ну? Вот тебе и упор: кто спилил? Я вам загляну за гашник, неправда! Вы у меня спознаете, как дед козу объездил.
И ляскал зубами.
Полночная звезда уж скатилась на сторону, когда дед поднялся из овражка к избе. Вспомнил, что сегодня к вечеру пролетели журавли. Вспомнил, что раньше в эту пору тут, в лесу охотились господские дети на вальдшнепов. И сказал вслух:
— И чего били, хрен их знает! Цыплока…
В избе зажег гасничку, разобрался. Встревоженный светом, поднялся на тонкие ноги пестрый телок. И, уставивши большие глаза на свет, тихо журчал на потемневшую подстилку.
Уснул дед сразу. И, казалось, сейчас же проснулся. Перебегая, надрывались собаки. В их лае было что-то тревожное, необычное. Забилось сердце.
Старуха сонным голосом чавкнула:
— Шш-што там?
— Я еще и сам не знаю.
А в голове бились почему-то тревожные мысли. Затеснило в груди даже.
— Што бы это такое? Не волк ли?
— Нет, человек, должно… Волки теперь не ходят…
В сенях ворвался в уши сквозь лай другой звук. Еще пуще задрожали руки, схватив дробовик. Раскрыл двери, — понял. По верху над лесом побагровело небо. Где-то был пожар… И оттуда, как эхо, докатывалось по верхушкам — длон-длон-длон…
— Батюшки! У нас на деревне…
В окно влипла старуха.
— Нет, старик, это как будто ближе к Павлову.
Зарево ширилось. Собаки, как очумелые, носились по лесу, разнося тревожный заливистый лай.
— Ну, я пройду к опушке, гляну.
— Скорей, старик.
И из окна услышал дед причитания:
— Мать божья… Ночь глухая… небось, детишки… скотина…
Заглохло. Шел быстро, спотыкаясь о кочки и корни. Ноги дрожали. Собаки удалялись. Потом начали приближаться, и скоро дед разглядел Пальму и Шарика. Черная Шинкарка была уж у ног. Оглядываясь, собаки лаяли на багровое зарево, на гулкий набат.
— У нас!
Через поле виднелся столб огня, темный шпиль колокольни.
— Эх, мать честная! Все пожрет!
И деду через черное поле чудились крики, вопли на селе. В голове стучало и трудно было переводить дух.
Долго огонь не затихал. Борис все стоял на опушке и глядел, как взлетали к небу языки и зарево расползалось вширь. Набат все еще стлался жалобным звоном по взлобкам, входил в уши и угасал сзади, в лесу.
Потом увязался другой звук. Словно где-то били сразу тремя вальками. Собаки залились вперед, разразившись новым приступом злобного лая. Ближе, громче. И на самом взлобке, на фоне зарева вырос черный торчек, — верховой. Слышно, как лошадь устало храпела и у нее ёкала селезенка.