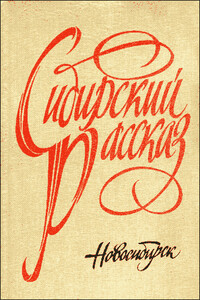Самое длинное мгновение | страница 20
— Не считаете ли вы несколько странным поведение вашего сына? Он все время на кухне с одной из этих… понимаете?
— Нет. — Мама так и села.
— Чему она может научить его? — вопрошал режиссер. — Женщины подобного сорта не останавливаются ни перед чем. Им наплевать на нравственность. Я, естественно, прошу извинить меня, но если вы не видите, а он не понимает, то мой долг… согласитесь, долг порядочного человека… Я обязан предупредить. Вы же знаете, что в молодости человека взрослят чувства, а в зрелые годы — ум. Надо бережно и строго относиться, к чувствам, ведь любое из них может захватить молодого человека целиком. Бедное сердце бывало и опошлено, и превознесено, и воспето, и оболгано, а ведь долгое время человека по жизни ведет одно оно. Если оно доброе, то приведет к доброму уму… А ваш сын начинает жизнь с того, что может вверить сердцу — кому?!
Режиссер говорил и говорил.
Мама страдала. У нее сердце было доброе, у него — злое, у меня — еще никакое.
Он мучил маму, и я спросил его:
— Тогда почему же на кухне вы за ней ухаживали?
— Я?! У… ухаживал?! — Режиссер вскочил, но сразу сник, сел. — Я просто отдал дань уважения красоте. Красоте — вообще. Не больше. А тебя я предостерегаю. Ты не представляешь, чем занимается эта красота.
— Не надо, — попросила мама умоляюще. — Он больше не будет.
— Чего — не будет? — вырвалось у меня.
— То, что… ну, тебе действительно незачем торчать на кухне.
— Хорошо. Примус перенести в комнату?
— Ты грубишь матери, — оскорбленно произнес режиссер. — Сознавайся честно, что ты не можешь перебороть нездорового любопытства.
— Я не знаю, что вам от меня надо.
— Вот ты грубишь уже и мне! — удовлетворенно воскликнул режиссер. — Прекрасно, дожили!
— Я не грублю вам, — ответил я, начиная понимать, что защищаю не себя, не маму, а Бэлу. — Я не сделал вам ничего плохого, и вы не имеет никакого права…
Тут вошел Жора, как он всегда входил к нам, — без стука, неожиданно, быстро; долго молчал и потом оказал:
— Я глубоко извиняюсь. Но мне не с кем разделиться мыслями. Да и на душе у меня… плохо.
— Присаживайтесь, пожалуйста, — обреченно пролепетала мама.
А Жора был великолепен. Он изрядно выпил, мысли одолевали его, он придал своему лицу наиболее глубокомысленное выражение, на какое только был способен, скрестил руки на груди и гордо начал:
— Рано или поздно меня посадят. Этот факт не подлежит обсуждению. Только осуждению. Вы — останьтесь, — королевским жестом остановил он режиссера, поднявшегося, чтобы уйти. — У меня до вас тоже есть дело. Вы будете отвечать на мои вопросы, а потом мы сядем за стол.