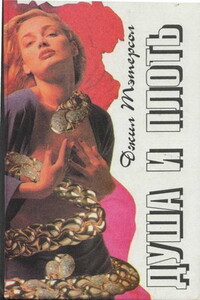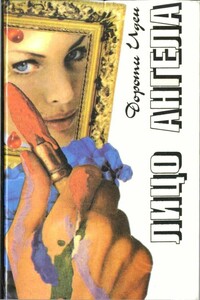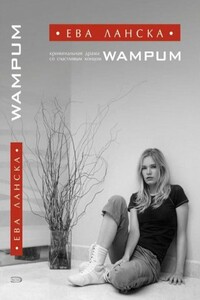Моряк из Гибралтара | страница 21
За всю вечную жизнь его интересовала единственная женщина. Может быть, у него просто не существовало другой части лица. И если бы он вдруг невзначай повернул голову, чтобы посмотреть на меня, он мог оказаться одноглазым с лицом тонким, как пленка. Но это всего лишь произведение искусства. Прекрасно оно или нет, я не знаю, на этот счет у меня нет собственного мнения. Но прежде всего это произведение искусства, и слишком долго его не рассматривают.
Подмигивал ли он еще кому-нибудь за четыре века существования? Его нельзя ни унести, ни сжечь, ни обнять, ни поговорить с ним. Чего же ради смотреть на него так долго? Мне надо встать со скамьи и продолжать жить. А чего ради, сидя в грузовичке, я смотрел на другой профиль, профиль того шофера, который учил меня, как быть счастливым? Я мечтал о нем каждую ночь. Где-то он сейчас? Наверное, в Пизе, весь вымазанный строительным раствором.
Неожиданно сильная боль в области желудка пронзила меня. Я знал эту боль. Я испытывал ее уже дважды: один раз в Париже, другой — в Виши. Я понял, кто такой ангел. Водитель грузовичка, этот предатель. Боль усиливалась, сжигала меня, и я знал, что она уйдет только со слезами. Но зачем же плакать? — спрашивал я себя все время.
Я надеялся, что, найдя причину этого странного желания, я избавлюсь от него и боль пройдет сама собой. Но вскоре она стала невыносимой, и я не мог больше рассуждать. Я сказал себе: если тебе хочется заплакать, заплачь. Значит, так надо. Потом ты поймешь зачем. Раз ты мешаешь себе заплакать, стало быть, ты нечестен с самим собой. Ты никогда не отличался правдивостью, даже наедине с собой, и, если ты хочешь быть честным, нужно начинать прямо сейчас, немедленно.
Эти слова, поднявшиеся во мне откуда-то изнутри, нахлынули на меня, как высокий прибой, и накрыли с головой. Каждый плачет на свой манер. В комнате раздался глухой стон, похожий на мычание теленка, который хочет вернуться к себе в стойло, к матери корове. Ни одна слезинка не выкатилась из моих глаз, но мычание продолжалось довольно долго. В последовавшей затем тишине я услышал:
— Вот и покончено с министерством.— Наверное, их произнес я. Жаклин вздрогнула. Вздрогнули туристы. Но она быстро овладела собой, быстрее, чем туристы. Боль исчезла.
— Ты действительно не такой, как все,— сказала она.
И хотя подобное поведение совсем не свойственно мне, она не задала мне ни одного вопроса. Она просто взяла меня за руку и повела в другую комнату с такой поспешностью, как если бы «Благовещение» угрожало моему рассудку.