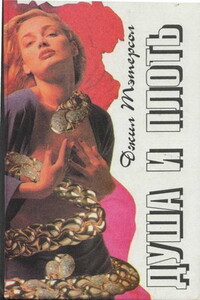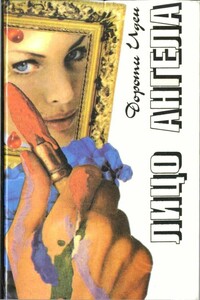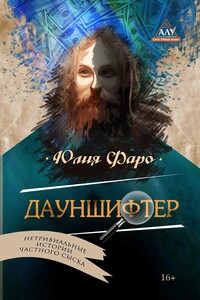Моряк из Гибралтара | страница 12
— Большой бокал мятной со льдом,— сказал он.— Месье хочет, видимо, этого.
Я выпил его залпом. После этого, усевшись на стул, долго исходил потом, до самого возвращения Жаклин.
Это была моя единственная прогулка по Флоренции. Потом я не выходил из кафе еще два дня.
Единственное существо, с которым я общался, был официант из кафе. Он нравился мне, и поэтому я возвращался сюда снова и снова. С десяти до полудня и с трех до семи я смотрел, как он работает. Иногда он приносил мне газеты. Иногда разговаривал со мной. «Какая жара»,— говорил он. Или: «Кофе гляссе лучше всего в жару. Он утоляет жажду и дает бодрость». Я слушал его и пил все, что он мне советовал. Ему была по душе такая роль.
Сидение в этом кафе за напитком, которого я выпивал пол-литра в час, наблюдая за официантом, еще как-то примиряло меня с жизнью. Не то, чтобы я убеждался, что жизнь достойна того, чтобы жить. Нет, конечно нет. Но она казалась мне менее непереносимой. Секрет заключался в полной неподвижности. Я не имел ничего общего с туристами. У них, по-видимому, не возникало потребности пить. Казалось, они обладают какой-то особой тканью — губчатой, что ли, как, скажем, у кактусов, что, видимо, и определяло их желание ходить целыми днями по городу.
Я пил, читал, потел и время от времени перемещался в замкнутом пространстве. Я выходил из кафе и шел на террасу. Смотрел на улицу. Поток туристов ослабевал к полудню и усиливался к пяти часам вечера. Потом снова возрастал. Они пренебрегали жарой. Несмотря на наличие особых тканей, они были героями, эти туристы, единственными в городе. Мне стало стыдно перед туризмом. Я покрыл себя позором.
Однажды я сказал официанту из кафе:
— Ничего не видел во Флоренции. Это возмутительно.
Он, улыбнувшись, ответил, что это вопрос темперамента, а не желания, что бывают те, кто может, и те, кто не может. Он совершенно убежден в том, что говорит, уж он-то знает, что такое настоящая жара. И вежливо добавил, что мой случай — наиболее типичный. Меня удовлетворил его ответ, и в тот же вечер я слово в слово повторил его Жаклин.
К четырем часам пополудни прошла поливальная машина. Мостовая сразу задымилась, и над улицей поднялись тысячи запахов. Я жадно втягивал их в себя. Они казались приятными и успокаивающими.
Я виделся с Жаклин только во время еды. Мне нечего было сказать ей. Ей же — напротив. Она рассказывала о том, что видела или делала в первую половину дня и после обеда. Она больше не требовала от меня никаких действий, но расхваливала прелести Флоренции, надеясь, что подобным образом вызовет у меня желание увидеть их. Она много говорила и все время о таких прекрасных, таких великолепных вещах, которые просто нельзя не посмотреть, и если я не сделаю этого, потеря для меня окажется невосполнимой. Я не слушал ее. Позволял говорить ей столько, сколько она хотела. Многое мог вытерпеть и в ней, и в самой жизни. Я был одним из тех очень уставших от жизни людей, драма которых состоит в том, что они не видят трагизма в своем положении, которое все прочие нашли бы удручающим. Эти люди обычно замечательные собеседники, в том смысле, что дают возможность другим говорить сколько угодно, при этом вовсе не испытывая ни малейшей гордости. И я позволил ей говорить в течение трех дней — два раза в день, утром и вечером. Затем наступил третий день.