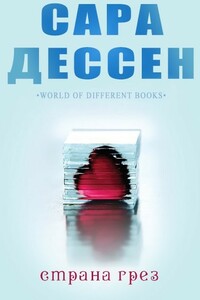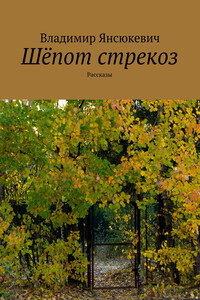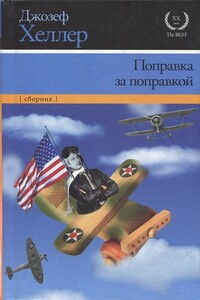Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 32
Здесь нам пока непонятно, кто и зачем должен посвятить свою жизнь добровольным лишениям и аскетическому самоистязанию? И главный вопрос: зачем? Кроме того, наш внутренний опыт и элементарное наблюдение жизни открывают истину, прямо противоположную той, которую утверждает Шопенгауэр: для каждого человека имеет значение в первую очередь он сам! Именно на разнице между «мной» и «не мной» всё стоит! Мы можем сказать кому-то: «Мы с тобой одной крови – ты и я. Я сочувствую тебе, я хотел бы помочь тебе». Но тот, кому мы это скажем – всё равно иной и никогда не станет для нас равноценным нам. Наши проблемы, наша скорбь, наша боль никогда не станут для других тем же, чем они являются для нас. Так же как их боль или радость не станут в полной мере нашими, даже если мы очень этого захотим. Каждый из нас заключен в свою оболочку. Отсюда и неистребимое в каждом из нас чувство одиночества.
Итак, Шопенгауэр допускает наличие множества потенций, идей в единой воле. На этот факт можно указать, как на одно из противоречий в его системе, ведь воля едина, а множественность относится к миру —представлению; однако здесь, судя по всему, вновь можно перекинуть мостик к концепции перевоплощения. Если допустить множественность идей в единой воле, тогда всё более-менее встает на свои места: допустим, некий индивидуум является отражением одной из мириад идей воли – это значит, данная идея может воспроизводиться великое множество раз и индивидуум будет проживать великое множество жизней, пока воля в нем не угаснет. Если такое угасание произойдет, то в единой воле исчезнет идея конкретно этой индивидуальности (а не всего мира). Чем не буддийская концепция реинкарнации и ухода в нирвану? Тогда возникает вопрос: если «я», как явление, в момент смерти исчезает, то что, по Шопенгауэру, должно возродиться из воли, которая и так неустанно занята все новыми и новыми индивидуумами? При чтении Шопенгауэра складывается устойчивое представление, что индивидуальность (конкретное явление) не играет, в общем-то, никакой роли: философ ведь призывает к пониманию того, что разницы между «я» и «не я» в глубинной основе нет. Тогда чего бояться? «Я» в любом случае перестанет существовать и, вместе со «своими» чувствами, мыслями, со своей личной историей жизни, исчезнет без следа. А уж что там сотворит воля в лице других народившихся индивидуумов нас совершенно не должно беспокоить. Поэтому концепция реинкарнации также представляется нам неубедительной. На наш взгляд, эта идея ничем не выигрышнее идеи о посмертном бытии души, ради которого нам следует хорошенько уже сейчас потрудиться. Но Шопенгауэра это, кажется, не смущает: да, это будешь не ты! Но какая разница между тобой и не тобой, если и ты, и он, и она, и все вокруг – это лишь явления воли?