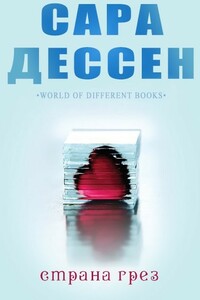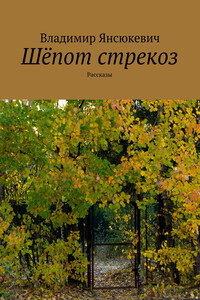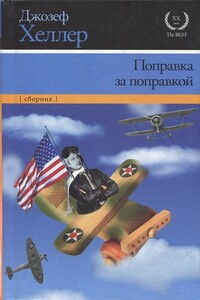Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 31
Что же, теперь у нас складывается достаточно полное впечатление о Шопенгауэре – человеке и мыслителе. Похоже, что претензии критиков по поводу несоответствия его образа жизни и его философии были, в значительной степени, безосновательными.
Справедливости ради следует сказать, что Шопенгауэр, отрицая самоубийство в принципе, тем не менее, рассматривает единственный способ добровольного ухода из жизни как вполне возможный и не входящий в противоречие с его концепцией воли. Речь идет об умерщвлении себя путем отказа от приема пищи. «От обыкновенного самоубийства совершенно отличается особый род его… Это – добровольно избираемая на высшей ступени аскетизма голодная смерть… Все-таки полное отрицание воли может, по-видимому, достигнуть такой силы, что отпадает даже та воля, которая необходима для поддержания телесной силы принятием пищи. Этот род самоубийства вовсе не вытекает из воли к жизни: аскет, достигший такой абсолютной резиньяции, перестает жить только потому, что он совершенно перестал хотеть. Другой род смерти, помимо голодной, здесь даже и не мыслим (разве придуманный каким-нибудь особым изуверством), ибо желание сократить муки было бы уже в сущности некоторой степенью утверждения воли». [64, 1, с. 338—341]
Ещё один момент: индивидуумов ведь очень много, правда? Но это не значит, что существует громадное множество воль. Воля одна-единственная и понятие множества к ней не применимо. Множество есть в этом мире как представлении, но не в воле как вещи в себе. Здесь лучше процитировать самого Шопенгауэра:
«Эгоизм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает всю реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность: впредь сущность человека, которую представляет собою его воля, будет пребывать только в других индивидуумах; интеллект же его, который относился лишь к явлению, т.е. к миру как представлению, и был не более, как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, т.е. в объективном бытии вещей, как таковом, – следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое я живет лишь в том, что оно до сих пор считало не-я, ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает.
Мы припоминаем здесь, что лучший человек – тот, кто делает наименьшую разницу между собою и другими, не видит в них абсолютного не-я, – между тем как для дурного человека эта разница велика, даже огромна (я выяснил это в своем конкурсном сочинении об основах морали). И вот, согласно сказанному выше, именно эта разница и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственная, коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и значит не абсолютно реальна, то в лагере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, т.е. утрату только мнимую. Как ни реальна в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки, с точки зрения метафизической, выражения «я погибаю, но мир остается» и «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, не различны». [64, 5, с. 207—219]