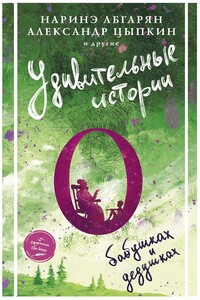Современная словацкая повесть | страница 58
Митух сидел, положив руки на подлокотники, молчал, смотрел на Гизелу. То и дело переводил взгляд беспокойных черных глаз на тюльпаны — семь желтых и один лиловый, — стоящие в вазе на спинке дивана. Он вполуха слушал, что она говорила, а сам перебирал в памяти ее слова в январе сорок пятого. «Йожо, Йожо, не знаешь ты жизни. Йожо, глупенький». Он разглядывал Гизелу, пополневшую, в легком шелковом платье. Белая кожа длинной шеи и овального лица по-прежнему безупречна, в голубых глазах, как показалось Митуху, усмешка уверенного в себе человека.
— За чем же дело стало, — ответил он холодно, — коль скоро вы утверждаете, что насчет Шталей и партизан просто сболтнули, что все это неправда, а сказали вы так просто, чтобы удержать меня при себе в те грозные дни. Тогда вы, по вашим словам, очень боялись партизан. — Он глянул на часы: в его распоряжении еще четыре минуты.
— Со Шталями дело обстояло так, как я говорю, с партизанами тоже.
Инженер Митух задумался. «Тебе что за дело, Йожо! Сейчас каждый живет, повинуясь только инстинкту. Старается избежать опасности. И я тоже — старалась, стараюсь и буду стараться избежать ее». Он пошарил по карманам в поисках сигарет. «Не надо ничего от меня требовать! Мы не знаем, что будет с нами через минуту. Йожо, Йожо! Нам теперь остается одно из двух — либо тебя кто-то выдаст, либо ты кого-то выдашь».
— Курите, пожалуйста! Сигареты на столе.
— Благодарю.
— Так вот, — сказала Гизела Габорова. — Если бы вы заехали как-нибудь в Молчаны или написали туда, мне это могло бы помочь. Можно будет устроиться на работу получше… И потом, что тут особенного, — продолжала она, откинувшись на диванную подушку в цветочек и надменно вздернув голову, — и без того все, что тут делается, сплошное очковтирательство.
— Что вы называете очковтирательством?
— Да все!
— А конкретно?
— Все, что тут делается!..
— Вы что же, провоцируете меня? — Тон у Митуха стал более резким и чуть ироничным. — Почему все-таки очковтирательство?
Ее белое овальное лицо слегка зарделось.
— Почему? Потому что всё вокруг, вся эта жизнь, — лишь мрак и ужас. В каждом человеке рядом со мной я вижу только своего личного врага, так и жду, что кто-нибудь погубит меня, на людях я вынуждена принимать смиренный вид, говорить кротким тоном, покорно выслушивать чьи-то пустые или лживые речи, безропотно сносить наглость. Трудно так жить. Вы, вероятно, знаете это по себе. Трудно жить с затравленной душой, с опущенной головой, съежившись, выслушивать глупые и пустые, оскорбительные для человеческого слуха — как вы когда-то выразились — речи, трудно жить с мыслью об узниках в тюрьмах и лагерях. Мрак и ужас — здесь можно жить только за счет тьмы и страха. Я работаю в управлении универмагами — там я всего лишь служу, а живу за счет тьмы и страха… и мне это уже осточертело… ради бога, пан инженер, убедите людей, что я… — Гизела Габорова, побледнев, несколько минут молча и нервно курила, потом вдруг покраснела. — Впрочем, нет, нет, убедите хотя бы только меня, что и я смогу жить по-человечески, а не так, доносами…