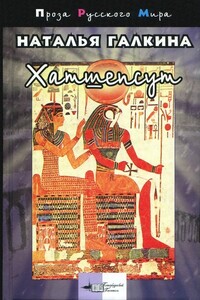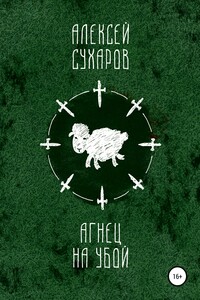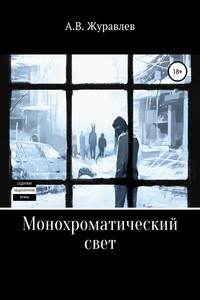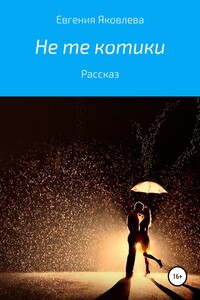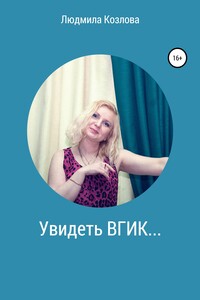Покровитель птиц | страница 105
— Что это у нее за таинственная суета с тасканием чемоданчика перед сном? — спрашивал дядюшка Лё тетушку Ли.
— Не знаю.
Малышка привезла с собой маленький обтянутый кожею сундучок-чемоданчик, чье содержимое маленькая беженка не обнародовала, то была ее первая детская тайна.
Тайна, впрочем, однажды открылась.
Зайдя в девочкин закуточек за печкою, Лилечка застала чемоданчик открытым, а девочку запихивающей под подушку какую-то тряпицу.
— Что это у тебя, Маечка?
— Это милка, — отвечала девочка шепотом, слегка насупившись.
Поколебавшись, она показала тетушке сокровище свое, с которым засыпала еженощно, чтобы утром перепрятать в свой баульчик. Милкой оказался старенький истрепанный дырявый шарфик отца.
— Милка папочкой пахнет… Как будто он тоже здесь со мной…
Лилечка не подозревала, как и никто не подозревал, как любит малышка отца, как без него скучает.
— Милка… — сказала ошарашенная тетушка.
В этом и был девочкин необычайный, редкий на скорбной нашей планете, в юдоли нашей, талант, стоивший, должно быть, всей необоримой силы материнской красоты и отцовской художественной одаренности. Что и замечено было, как мы уже знаем, случайно увидевшим ее в прихожей мастерской квартиры на Фонтанке индейцем.
— Никому про милку не говори, — сказала Маечка.
— Не скажу, — сказала тетушка.
— Я тебе еще коробочку от дедушки покажу.
Коробочка из-под старинной карамели была извлечена из чемоданчика и открыта. В ней лежала горсть самоцветов, которые в первую минуту Лилечка приняла за цветные стеклышки, потом разглядела. Хризолиты, хризопразы, турмалины, малое малахитовое яичко, александрит, гранат, кристаллы горного хрусталя, мелкий шерл, «венерины волосы» волосатика, топазы.
— Бабушка Маня сказала — это мне подарок от дедушки Виталия. А сам он уехал навсегда, надолго. Их когда смотришь, они, бабушка сказала, душу веселят.
Домик стоял фасадом на Февральскую улицу, и только в одном маленьком торцевом кухонном оконце видно было озеро, остров и монастырь, основанный некогда патриархом Никоном при поддержке царя Алексея Михайловича. На греческий Афон направлены были иконописцы, написавшие там копию чудотворной иконы Иверской Божией Матери и привезшие точный план Иверского монастыря, который был взят за образец будущей обители. В 1656 году икона прибыла с Афона в выстроенный монастырь, где совершено было освящение главного — Успенского — монастырского собора.
Однако люди ближайших селений всех трех плесов озера боялись ходить, а, точнее, на лодках плыть (ходить боялись собственно островитяне, а на лодке до монастыря, что с первого плеса, Валдайского и Зимогорского, что с третьего, с Долгих Бород, было не больше трех километров) на службу в обитель, потому что некоторые видели, многие и не единожды, что из озера Валдайского выходит на берег чудовище, Валдайская Несси. Тогда патриарх Никон выехал на середину озера и освятил его, после чего озеро стало именоваться Святым, а обитель — Святоозёрской.