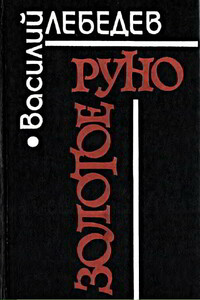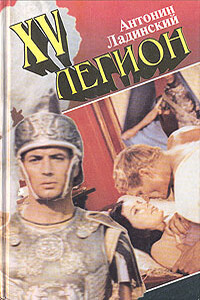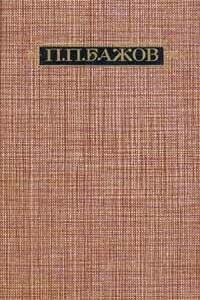Посреди России | страница 22
«Понимает. Все понимает…» — подумала она и осторожно подавила тяжелый вздох.
Проехали выгон, обнесенный обветшалыми жердями, но они еще прочно держались на дедовской вересовой вязке, и если бы не гниль на столбы — стоять бы еще забору. Телега запрыгала по неперегнившим корням вырубленного ельника, заколыхалась из стороны в сторону, забавляя Проньку и болью отдаваясь в ногах Анисьи. Кругом чернели старые пни и убегали густеющей рябью под самую стену отступившего леса.
— А здесь лес был? — спросил Пронька, и Анисья обрадовалась его вопросу.
— Лес. Большой лес.
Она немного помолчала и тихо заговорила, словно припоминая:
— Ели тут были — густые да высокие. Идем, бывало, с гулянья — я тогда еще девчонкой была — страшно. А когда парни за девчонкам-те увязывались — не страшно: они играют на гармошке, а мы поем нешибко. Мама твоя тоже тут хаживала, — неожиданно вымолвила Анисья и вдруг почувствовала что-то вроде легкой ревности к той женщине, своей младшей подруге, которой уже нет, но ее, единственную в мире, Пронька может легко называть матерью, хотя она не может ни обогреть, ни накормить его…
— А то, бывало, под весну, на пасху, соберемся — и в церковь. Дорога мокрая. Другой год, бывало, еще снег лежит меж елок, а мы идем в хороших нарядах — ни живы ни мертвы. И вдруг какая-нибудь из нас: чу, девки! Остановимся, а где-то уж звонят. Хорошо…
Анисья обхватила руками колени и продолжала говорить. Она знала, что он не все поймет, ко было хорошо почему-то, наверно оттого, что вот ей, Анисье Плотниковой, есть что вспомнить и что этот несмышленыш Пронька внимательно слушает ее, молчит и никому не передаст ни слова.
— По этой дороге мой тятенька любил шибко ездить. Лошадь у нас была. Хорошая лошадь. И дом тогда у нас был совсем новый, не то что теперь. И поесть, и одеть было у нас. Все мы трудились, как пчелы, вот и жили не хуже людей добрых. А когда тятеньку убили японцы…
— А зачем?
— Так на войне много убивают, вот хоть взять сейчас у нас в деревне… — Она поняла, что не должна говорить дальше, и торопливо вернулась к начатой мысли: — Как убили его японцы, так и стали мы бедно жить. Хорошая земля ушла за недоимки, ну да бедность — не велика беда, с ней еще жить можно кое-как. Вот мы и жили. Чужого ни у кого не брали, худого ни про кого не говаривали, и нас никто не хаял… Ты, Пронюшка, отворачивай от ям-те! Вот так, ведь теперь тут не лес — выруб. Это в лесу, бывало, не свернешь, не разъедешься. Раз тятенька ехал на базар в город, овцу вез, а ночь еще была — до свету выехал, чтобы, значит, к началу базара поспеть. Едет вот по этой дороге, а его возьми да и останови в лесу-то верховой, да с ножиком с длинным. Стал верховой тятеньку грабить. Отнял овцу, снял полушубок овчинный новехонький да и ускакал по дороге. Вот вернулся тятенька домой, убивается, а мама — царствие ей небесное! — и говорит ему: да полно, не кручинься, все обошлось, мол, хорошо, не велика утеря — еще наживем, было бы здоровье! А утром, чем свет, едет откуда-то мужик, наш, деревенский, дедушко Степки Чичиры, да и кричит людям на всю деревню, что в лесу человек убитый лежит. Побежали — верно. Лошадь рядом ходит, овечка тятенькина лежит живехонькая, ножки связаны, а на убитом полушубок тятенькин, на один рукав надетый. Сук около убитого валяется, толстенный, а голова у сердешного вся в кровь разворочена. Это он об сук убился. Вот ведь как его бог покарал. Не надо, Пронюшка, людям худого делать…