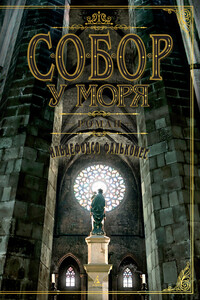Песнь моя — боль моя | страница 60
Теперь юноша узнал многих. Вот тот хмурый коренастый человек со впалыми щеками — главный хунтайши Хара-Хула, поодаль от него с брезгливой усмешкой стоит Хо-Урлюк из тургаутов, рядом с ним — похожий на воробышка старичок — знатный хошоут Хундулен, а этот рыжий коротышка — Чохур-тайши, сын Хара-Хулы.
Посланец Далай-ламы, Цаган-номун, спросил его имя, — видно, оно ему не понравилось. Покачав головой, Цаган-номун сказал:
— Отныне ты будешь зваться Зая-Пандитой. Поедешь со мной в Тибет, Лхасу, будешь учиться.
Юноша промолчал. Что он мог сказать? Он думал о Маржан. Ее песня печально и жалобно звучала в его душе.
…Через десять дней Зая-Пандита вместе с сыновьями тайши, принятыми в ламы, отправился в далекий Тибет.
Все осталось позади: улыбка лета, радость, переполнявшая сердце, синий родник, где он увидел Маржан. Слезы катились по его щекам. Родник, журча прозрачной водой, долго прощался с ним. Потом и он умолк. И первая любовь, долго звучавшая в его душе одинокой свирелью, своей неповторимой песней, тоже осталась позади, Осталась в невозвратной юности.
Зая-Пандита пробыл в Тибете двадцать два года. Он вернулся в Джунгарию лишь в 1639 году, когда ему было сорок лет. Он получил духовный сан — геген-кутухта{45}, то есть стал главным ламой всех ойротов. Спустя год Зая-Пандита становится верховным ламой Халхи — Северной Монголии.
Когда-то он считал, что годы не сотрут в его душе образ Маржан. Но время обладает разрушительной силой. Вернувшись в родные места, он однажды встретил оборванную, изможденную женщину. Что-то знакомое мелькнуло в ее бледном лице. Мелькнуло и исчезло. Лама не узнал ее и прошел мимо.
Откуда ему было знать, что от беспросветной тоски и дум о нем, которые она могла поведать лишь ветру да земле, Маржан была сломлена и так рано состарилась. Впившись в него долгим взглядом, она тоже промолчала. Опустив на землю тяжелый мешок, отвесила низкий поклон. Она считала, что не вправе заговаривать с ламой. Разница была слишком велика: оборванная, нищая рабыня — и всемогущий кутухта. С тех пор как легла в могилу ее мать, которая так любила слушать песни Маржан и была единственным утешением, ее другом в этой горестной жизни, Маржан будто оглохла, стала молчуньей. В ауле ее не любили, презирали. Словно считая роскошью для нее даже это рабское существование, ее заставляли целыми днями собирать кизяк в степи, далеко от аула. Когда Маржан вспоминала потерянную родину, родных и близких, перед ее глазами проплывали смутные картины детства, вызывая сладостную тоску. Она вспоминала, как на благоухающем весеннем джайляу с радостным криком: «Коке!» — бросилась на шею отцу, вспоминала, как, замирая от счастья, сидела на плече рослого человека, в грубом домотканом чекмене. Как могла она забыть родные морщинки в краешках глаз этого сурового на вид мужчины, его глаза, светившиеся отцовской любовью…