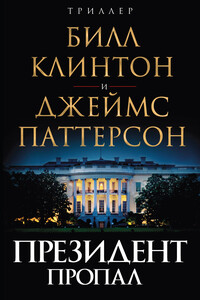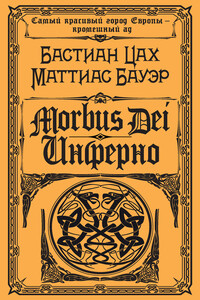Украденное лицо | страница 42
Она не дает себе закричать. Не теперь. Никогда. Она лишь прижимает к груди кулак, кулак со ссадиной там, где он ее схватил, и надписью «БОЛЬШЕ ПОЭЗИИ!!!», заживающей у нее на предплечье, она дышит очень медленно, размеренно и глубоко, от такого дыхания колет и давит в груди, но не издаешь ни звука.
Вот дурочка, думает она. Ты заслуживаешь всего плохого, что с тобой случается.
Может, это полная луна. Может, это ярко светят звезды. Может, это сигареты пахнут, как ладан.
«Но не для нее, – думает она. – Никогда для людей вроде нее, которые не живут в Верхнем Ист-Сайде, которые не учатся в Йеле, которые даже не натуральные блондинки».
Все, кто хоть когда-то ей это говорил, оказываются правы.
– Что за чушь собачья, – удивляется Лавиния, когда на следующий день Луиза пытается вернуть билеты на оперу. – Это же премьера сезона.
Луиза бормочет какие-то туманные и неубедительные извинения. Полу нужны дополнительные занятия для поступления в колледж, потому что он курит слишком много травы. Что-то вроде того.
– Билеты уже оплачены, – возражает Лавиния, словно только в этом все и дело.
Она замечает у Луизы ссадину.
– Господи боже.
Луиза объясняет, что это ничего, что это просто парень, которому нравится с ней заговаривать, что он немного распустил руки, потому что слишком отвязался, и подобные вещи происходят все время.
– Все время?
Лавиния задирает ноги на дорожный кофр. Обмахивается павлиньими перьями. Делает музыку погромче.
– Давай-ка переселяйся в комнату Корди, – предлагает она. – Та все равно останется в Париже все лето.
Это глупость. И Луиза это знает.
Но такая же глупость – отказываться от бесплатной комнаты на углу Семьдесят восьмой улицы и Лексингтон-авеню.
Неделю спустя Лавиния нанимает фургон для переезда. Она появляется в квартире на Сансет-парк в брюках палаццо и с убранными под шарф волосами, словно она путешественница из 1930-х годов, отправляющаяся на поиски приключений в страну драконов, хотя они всего лишь в Южном Бруклине (даже не в собственно Южном Бруклине вроде Грейвсенда или Бенсонхерста, а просто в Сансет-парке). Она так смущенно смотрит на винные погребки, на белые пластиковые стулья и на какого-то писающего в вестибюле грека.
– Просто обожаю, – говорит Лавиния. Она тушит сигарету о стену вестибюля. – Тебе нужно о нем написать. О безумном греке, а может, он пророк. Бьюсь об заклад, что «Скрипач» упадет от радости.
Луизе хочется больше никогда не думать об этом сумасшедшем греке.