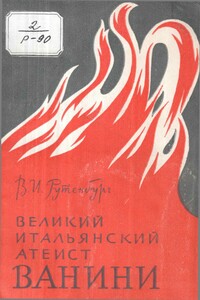Титаны Возрождения | страница 37
В Падуанском университете последователи его учения появились еще в XIII в. В эпоху Возрождения здесь преподавали такие известные аверроисты, как Ахиллини, Верни, Нифо. Считая основой всего единую и вечную материю, из которой развиваются все формы жизни, они выдвинули и идеалистическое положение о существовании безличного мирового разума как высшей формы бытия. Это вызвало справедливую критику со стороны более радикально настроенных падуанских профессоров, в результате чего уже с конца XV в. здесь появляется более смелое течение аристотелизма, родившееся на основе изучения комментариев греческого философа III в. Александра Афродизийского и от его имени получившее наименование александризма. Александристы отрицали бессмертие души и выдвигали тезис о естественном происхождении человека.> 25
Среди философов — зачинателей новой науки — особое место принадлежит Пьетро Помпонацци, который был сверстником Пиркгеймера. Он был профессором в университетах Болоньи, Феррары и Падуи. Помпонацци был главой школы александристов. Он истолковывал философию в духе, враждебном ортодоксальному томизму. В своем трактате «О бессмертии души» он убедительно отвергал возможность рациональных доказательств бессмертия души и разработал систему нравственности человека, свободного от страха перед потусторонними наказаниями и поощрениями, перед адом и раем, считая ее благородной, смелой и человеческой в отличие от христианской. Идеи Помпонацци царили в Падуанском университете, и хотя не все его слушатели становились александристами, идеи эти оказывали влияние на их идейное формирование.
==57
Пиркгеймер вернулся из Италии образованным и убежденным гуманистом. Он был главой и собратом немецкой «республики пера и кисти», куда входили Цельтис, Дюрер и другие выдающиеся умы немецкого Возрождения. Патриций и сторонник олигархии, он преступил черту своего социального круга и стал искренним другом людей, которые по феодальному и бюргерско-аристократическому кодексу морали были представителями иной, более низкой среды. Он был поклонником образования, которое рождено усердием и трудом, и продолжал трудиться всю жизнь, занимаясь переводом «Диалогов» Платона. Подобно Помнонацци он противопоставлял страху перед неизбежным уходом в «край безвозврата» радость жизни, радость познания природы. Пиркгеймер не был гордым аристократом, снисходившим только к образованным выходцам из низов, он был истинным гуманистом, и его интересовал человек во всех его проявлениях. Осенью 1521 г. он вместе с Мартином Лютером, Ульрихом фон Гуттеном и другими был отлучен от церкви, покинул свой государственный пост и уехал из Нюрнберга в имение Нейгоф. Здесь он не стал затворником-эрудитом: «Почти ежедневно я погружен в чтение, большею частию Платона, — с тем большей страстностью, чем свободнее я от забот. Едва позавтракав, я отдыхаю за чтением историй или развлекаюсь, в промежутках предаюсь музыке или отвечаю на письма моих бесчисленных корреспондентов. Часто меня также посещают друзья. . . Когда же нет друзей, я сзываю к ужину селян, особенно в праздничные дни, и тогда веду с ними беседы о сельском хозяйстве и о явлениях природы. . . После этого я снова беру в руки книги, иногда священные, чаще научные, и в первую очередь те, в которых описываются нравы людей или величие природы. И тогда я бодрствую до глубокой ночи, когда, если небеса чисты, с помощью астрономических инструментов я наблюдаю движение блуждающих звезд».