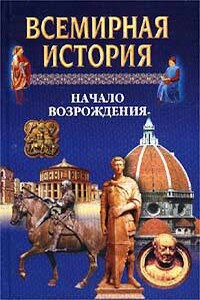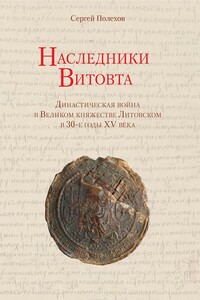Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) | страница 150
Но его неокрепшая, по-прежнему больше чувствуемая, чем многосторонне обдуманная мысль о совершенном Шаблове, увы, не нашла здесь сторонников. Она мало походила на идеи, шумно исповедуемые тогда сходящими на нет народоправцами, а с художественной стороны — на картинное реконструирование национальной школы княгиней Тенишевой, чьи крестьянские затеи глядели умиленным театром. Можно представить круг и атмосферу споров Честнякова с балованным старостой Тенишевской студии Жаном Билибиным, так изысканно и отстраненно чувствующим сказку, которая была для Честнякова колыбелью нового и перспективного деревенского сознания, или с товарищем по жилью на Васильевском острове Сергеем Чехониным, чья рука в рисунке не знала трудностей, но чьи великолепные цветы, украшавшие впоследствии обложки «Аполлона» и легчайший фарфор Петербурга, не росли на родных Честнякову шабловских откосах. Можно представить, как терялся он от досады, если судьба заносила его пусть не в недосягаемые «святилища» Мережковских (хотя он и там бывал), но в простую студенческую компанию, на все лады рядившую о новой России, о новом искусстве, новом человеке, и страшно далекую от его мыслей о здоровом развитии уже существующих основ деревенского устройства. Это было разговорчивое время. Говорили много, жадно, будто хотели отгородиться от забот времени. И все о последних предметах — жизни, смерти, мышлении, искусстве. Для нетвердых, разбросанно мыслящих умов это опасно. Может быть, к какому-нибудь берегу прибился бы и далеко все-таки оторвавшийся от деревни Честняков, но сначала 9 января 1905 года, после которого он заболел от нервного потрясения. А там с осени закрытие Академии из-за студенческих беспорядков на неопределенное время. Все это побудило его оставить Петербург и возвратиться в Шаблово. Он не предполагал, что не скоро вернется к прерванным занятиям и осядет здесь на восемь лет. Полиция на всякий случай взяла его под надзор. Это дало повод еще и сейчас рассказывать его ученику Я. И. Беляеву, будто Ефим бежал из Петербурга в водовозной бочке. Это тоже было из житийных оправданий его непонятного для родителей и однодеревенцев возвращения после стольких лет учебы к обыкновенной крестьянской работе.
* * *
Ему было уже тридцать лет. Как незаметно миновали двадцать лет скитаний, прошедших в почти беспрерывной, хоть и путаной, случайной и несистематической учебе! И с чем он встретил этот значительный возраст, когда деревенский мужик уже давно крепко хозяйствует, держит дом, воспитывает не меньше троих детей? Ни крестьянин, ни барин, одинокий, замкнутый, счастливый только с деревенскими детьми, он готовился к воплощению своей отрадной, обретающей плоть идеи.