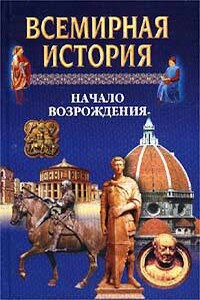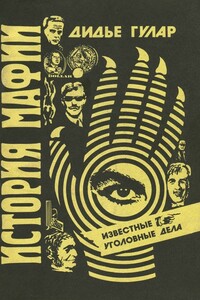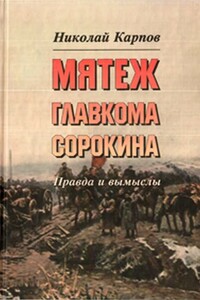Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) | страница 149
Это пейзаж классический в русской поэтической биографии. Такая даль открывается с пушкинского парнасского холма над Соротью в Михайловском, так владеет пространством за Которослью некрасовский дом в Карабихе, так в двух шагах от есенинского дома в Константинове земля обрывается к Оке и уходит за реку в бескрайность.
Мы все знаем это томное волнение перед внезапно открывшейся далью лесов, полей, моря, горных вершин, словно нам предстоит лететь над этой далью, а крылья смяты повседневностью и не готовы к полету. Когда же душа с первого дня формируется в виду такой шири, она исподволь раскрывается вся, и тогда, даже если обречь человека на пожизненное заключение в тесной комнате, его мысль будет многоохватна и непременно будет искать распространения на все человечество.
Не мудрено, что ему было тесно учительство, да еще по чужим деревням, ведь он уже знал завораживающую пленительность деревенских сказок, обрядов, всю орнаментальную сторону быта, впитанную с речью бабушки и дедушки, как это впитывается всеми деревенскими детьми, с тою только разницей, что Честняков чувствовал острее и видел дальше и уже догадывался о важности этой стороны крестьянской жизни, если развивать ее сознательно и умно.
Он много рисовал. И у него уже была тетрадь, одно название которой звучало горделиво и вместе простодушно, как родословные предания великих фамилий: «Литературные опыты Ефима Васильева и Василисина, внука Самойлова и баушки Прасковьи и правнука Федорова и пра-баушки Марфы и прадедушки Ивана, и прабаушки Одарьи — родителей баушки Прасковьи...». Он вряд ли знал, что в московской публичной библиотеке при Румянцевском музее в это же время старый философ Федоров, ценимый Толстым, достраивал умозрительное здание всеобщего воскрешения предков для благодарной и бесконечной жизни памятливого человечества, но, выписывая древо рода, Честняков именно любовно воскрешал дорогих людей, благодарил их этими перечислениями и как будто одновременно возлагал на себя ответственность перед их немым судом.
И все это: и хороший театр, к тому времени виденный им, и «Литературные опыты», и рисованные сами собой объединялись в его сознании как части одного только-только прозреваемого, остро предчувствуемого целого. Рисование пока представлялось ему среди этих занятий первенствующим. Добрые люди показали его рисунки Репину в Петербурге, и в 1899 году, на самом пороге нового века он и едет в Петербург. Он пробудет здесь, с вычетом одного казанского года, шесть мытарственных лет, хотя внешне, в «краткой биографической справке все выглядит красиво: мелькают Тенишевская студия, уроки Репина, натурный класс Академии художеств, мастерская Д. Н. Кардовского.