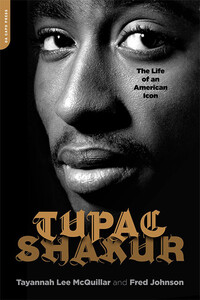Житие святого Северина | страница 30
Товарищ Горбовский сделал всё для него возможное, но смог он немного, так что я по сей день не смог опубликовать даже статейки о Северине, не то что всю работу о нем. Но — сама работа по количеству мелких, но уникальных в севериноведении открытий выросла чуть не вдвое. (И продолжала расти до конца 2003 года). А почему? Потому что была у меня беседа с Иваном Антоновичем. Снова и снова перечитывая её, несколько раз перепечатав для раздачи почитателям памяти Ивана Антоновича, я в конце концов поймал себя на мысли, что теперь, когда он о Северине написать не смог, а Гулиа — я к нему ходил — не захотел, у него своих замыслов хватало, а Северин ему не родной, не то что Гирин Ефремову, а Немировского мне поймать не удалось, — теперь я просто обязан сам написать о Северине что-то художественное, ведь это — выполнение завета Ивана Антоновича, он же мне это посоветовал. Но как? Ведь возражения мои ему тоже показались убедительными… А если обойтись без внешних подробностей, оставить только мир мыслей Северина? Если заставить его самого рассказать — кому?
Конечно же, преемникам его, продолжателям его дела, исполнителям недовыполненной им задачи — о себе и всём ходе постановки и выполнения этой задачи? Предсмертная исповедь — с предельной откровенностью, ибо иначе они не смогут закончить дело, и всё пойдёт прахом… Попробовал. И вышло нежданно-негаданно, что Северин наговорил такого, о чём я до того и не думал, причём даже думать не мог. А ему, по ходу дела натыкавшемуся на те или иные проблемы, приходилось их всесторонне рассматривать, перебирать варианты, ставить вопросы, искать на них ответы. Когда-то Пушкин жаловался, что «Татьяна такую шутку удрала, какой я от неё никак не ожидал — она замуж вышла!» Так и мой Северин преподнёс мне целую серию сюрпризов. Потом я решил предоставить слово его противнику Фердеруху, потом принцу Фредерику, потом Одоакру, Теодериху Остготскому, вообще всем персонажам «Жития».
Их высказывания тоже оказались для меня во многом неожиданными, но в совокупности дали картину цельную и на редкость непротиворечивую. В итоге получилась повесть — не повесть, что-то схожее с позже прочитанной мною великолепной книгой Фёдора Бурлацкого «Загадка и урок Никколо Макиавелли» (1977 год). Однако и её опубликовать мне не удалось, ибо работа, написанная по завету затравленного Ефремова и с использованием метода и работ травимого Льва Николаевича Гумилёва никак не может получить доброго отзыва от «специалистов», каковых вообще-то по Северину у нас и нет, а есть «по эпохе», причём все они глотнули отравы из работ Дмитрева и потому стоят насмерть против ревизии его «взглядов». А без отзыва специалиста ни монографию, ни повесть не опубликовать…