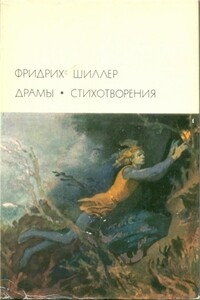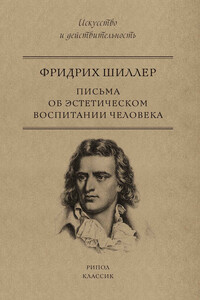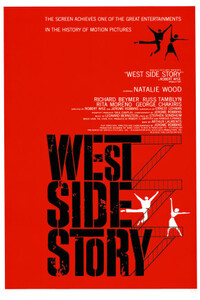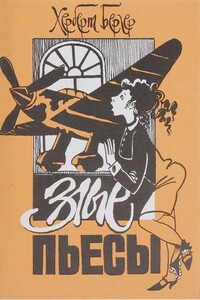Дон-Карлос инфант Испанский | страница 7
Schlimm, das der Gedanke
Erst in die Elemente trokner Silben
Zersplittern muss, die Seele zum Gerippe
Verdorren muss, derSeelezu erscheinen {*}.
{* Дурно, что мысль сначала должна распасться на сухие слоги, а душа должна высохнуть в скелет, чтобы предстать пред душою.}
Это замечание весьма подходит и к внешней истории произведения поэта, в котором думы, чувства и настроения зарождались с такой интенсивностью, что не укладывались в "сухие слоги", из которых составляются слова, не поддавались "расчленению" для того, чтобы найти себе подходящее выражение. Так Лермонтов юношей писал:
Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум.
Шиллер один из первых поэтов новейшей эпохи ощутил этот разлад между формой и содержанием, которое не умещалось в определенныя рамки. Он был инициатором новой формы драмы и стремился подчинить форму содержанию, но не достиг законченности формы потому, что содержание представлялось слишком живым, колеблющимся, захватывающим сокровенныя думы и чувства поэта, который хотел бы "сказаться без слов» и не мог сразу обнять все сложное содержание, которое в нем накоплялось по мере того, как он вдумывался в намеченный сюжет.
Мы назвали историю возникновения "Дон Карлоса" поучительной: действительно она представляется таковой, если принять во внимание тот процесс ассоциации мыслей, которыя постепенно возникали в авторе, наперекор его первоначальному желанию ограничить свою задачу. Не следует упускать из виду, что стройная законченность французских классических трагедий, на которыя Виланд указывал как на образцы, достойные подражания, в значительной мере была обусловлена тем, что изображались отдельныя чувства, одна страсть, один душевный кризис, одна борьба двух противоположных стремлений. Такое выделение отдельных моментов психической жизни человека во многом облегчало задачу поэта для достижения искомой гармонии формы и содержания, при наивозможной полноте и совершенстве формы. Простыя чувства выражались проще. Но законно ли такое расчленение внутренней жизни человека? Вправе ли мы останавливаться лишь на разсмотрении изолированных чувств? Где грань между индивидуальной жизнью и областью общественных интересов? Мы видели, что Шиллер сперва попробовал установить эту грань и хотел представить "семейную картину" без политики. Однако, обойти вопросы общественности ему не удалось: жизнь каждаго отдельнаго человека представилась ему в слишком тесной связи с условиями общественной организации и образ действия каждаго лица в зависимости от того или другого усвоеннаго им миросозерцания. Изображение отдельных чувств приводило к раскрытию основных принципов, которыми человек руководствуется в жизни; "семейная картина" неизбежно, с точки зрения Шиллера, должна была обратиться в общую картину эпохи, и прошлое рисовалось в борьбе с настоящим, которое было озарено просветами на будущее. Пожертвовав "классической", но все же условной законченностью формы, Шиллер раскрыл нам то высшее, идеальное содержание духовной жизни человека, которое безконечно по своей сущности и приводит к основным проблемам добра и правды.