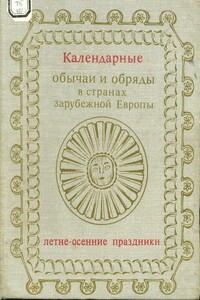Очерки истории европейской культуры нового времени | страница 123
Были, конечно, среди символистов и те, кто никаких глобальных задач перед собой не ставил и ни в какое переустройство мира (ни по Божьей воле, ни по человеческому разумению) не верил. А лицемерие, грязь и пошлость современной им земной жизни они категорически не принимали. Этих-то художников, думаю, и следует отнести к числу декадентов. Заметим, кстати, что число их было не таким уж маленьким.
Но может ли человек, особенно творческий, создать что-либо ценное, не имея перед собой высокой цели? Постмодернисты уверяют нас, что это возможно. Правда, все то новое и ценное, что есть сейчас в европейском искусстве, создано за счет былых культурных достижений, используемых либо напрямую, либо в виде пестрой комбинации цветных осколков. Все остальное в нынешнем искусстве – продукт, приготовленный на потребу обывателю, такой себе «новый бидермейер».
Сегодня с этим, увы, мирятся, но декаденты в свое время бидермейер терпеть не могли, да и классическое искусство не очень-то жаловали. Мелкотемье их привлечь, конечно же, не могло. Ведь все они были символистами и, подобно Бодлеру, верили, что за «вселенской аналогией символов» скрывается суть бытия. О том, в чем заключается эта суть, декаденты могли только догадываться, поскольку твердого знания на сей счет у них, в отличие от «религиозных символистов», не было. А тем, кто не имеет твердой веры в Бога или другой вселенского масштаба идеи, погружаться в мир символов особенно опасно. Уходя от реальности, которую они считали всего лишь видимостью, декаденты вели себя, подобно герою русских сказок, который должен был идти туда – неизвестно куда, искать то – неизвестно что. Неудивительно, что, делая свой выбор, они часто ошибались и оказывались в тупике.
Одни идеи у декадентов неожиданно сменялись другими, иногда прямо противоположными. Показательна в этом смысле творческая судьба автора манифеста декаданса Жориса-Карла Гюисманса. Всю жизнь этот мятежный писатель спокойно прослужил чиновником в министерстве внутренних дел Франции. Его первые стихотворения в прозе, опубликованные в 1874 году, написаны под явным влиянием Бодлера и «проклятых поэтов». Затем Гюисманс вдруг сближается с писателями «натуралистической школы». Но ненадолго. В 1884 году он публикует уже упомянутый скандальный роман «Наоборот», воспринятый в штыки как «натуралистами», так и приверженцами классической литературной традиции. Герой этого романа Дез Эссент коллекционирует экзотические безделушки, морские карты, секстанты и… запахи, наслаждается творчеством Эдгара По, Бодлера, Верлена, Корбье, Малларме – всех тех, кто бросал в мир мощные сгустки негативной энергии, чтобы нарушить покой обывателя «взрывами истерии, путаными кошмарами, скабрезными выходками и мрачными видениями». Герой романа проклинает все, что находится за пределами его маленького мирка: «Катись в тартарары, общество; умри, старый мир!» По сути, под всем тем, о чем говорил Дез Эссент, готовы были подписаться большинство декадентов. Через несколько лет Гюисманс пишет еще один скандальный роман «Там, внизу», где с симпатией описывает «черную массу» сатанистов, то есть опускает своих героев уже в полный мрак. Но потом совершает очередной кульбит – переходит в католичество. После чего пишет книгу о святой Лидвине и роман о средневековой символике. Незадолго до смерти Гюисманса избирают президентом Гонкуровской академии и награждают орденом Почетного легиона. Такие вот метаморфозы.