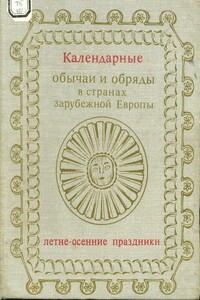Очерки истории европейской культуры нового времени | страница 122
Символизм и декаданс
Поэтов, писателей и художников направления, о котором идет речь, попеременно называют то символистами , то декадентами , а чаще всего символистами и декадентами. Связь между этими двумя понятиями, безусловно, есть, но так ли уж она неразрывна? Неужели любое проявление символизма обязательно должно порождать упаднические настроения? Казалось бы, прорыв художника посредством символов сквозь пелену видимости должен стимулировать его движение в сторону все более сложных и масштабных целей, а вовсе не подавлять творческую волю и вызывать чувство отчаяния. Думаю, так оно часто и происходит, и не всегда мы вправе ставить знак равенства между символизмом и декадансом.
Вполне естественной представляется связь символизма с религией, с мистикой. Особенно такая связь характерна для русских символистов, прежде всего для последователей Владимира Соловьева – богоискателей. Но верующих символистов вряд ли можно считать декадентами, потому что их символизм – это стремление прорваться к сущности бытия, к Божественному началу. А такое стремление не оставляет места тотальному пессимизму. Правда, на Западе, где церковь давно утратила значительную часть былого авторитета, религиозность символисты часто подменяли мистицизмом, обычно восточного и языческого происхождения. И этот мистицизм у многих художников был проявлением своеобразного (экзотического) эстетизма, а вовсе не веры в Бога.
Немало символистов пытались поставить свое искусство на службу вполне земным, но, тем не менее, весьма значительным целям, которые в тот момент казались важными и весьма привлекательными для миллионов людей. Речь идет в первую очередь о ставших популярными в те годы идеях социализма, о национализме, империализме и набирающем силу расизме. Те, кто служил этим целям (а среди них были Уильям Моррис, Рихард Вагнер, Габриэле Д’Аннунцио и даже марксисты-богостроители), ждали осуществления в скором времени своей мечты, и, естественно, не собирались предаваться упадническим (декадентским) настроениям. Их всех (с большой долей условности, разумеется) можно считать религиозными символистами , поскольку они руководствовались в своем творчестве каким-либо макронарративом, т. е. верили в высокую, как им казалось, идею, способную преобразовать весь мир.
К символистам, вероятно, можно причислить Ницше и ницшеанцев. Самого автора идеи о Сверхчеловеке, несмотря на его частые депрессии, декадентом назвать нельзя. Ведь идея-то была вовсе не пессимистической. Должна была бы она вдохновлять и последователей Ницше, но многие из них ничего позитивного в его творчестве так и не нашли, а потому упали духом. Со временем разочаровались и стали пессимистами многие из тех символистов, которые надеялись реализовать свои идеалы с помощью политических и национальных революций. Но до тех пор пока у них сохранялась вера в избранный макронарратив, декадентами они не были.