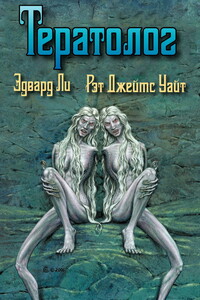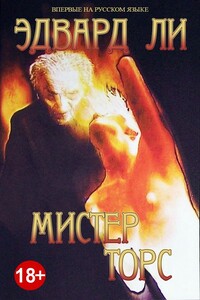Свинья | страница 6
— Освободи меня, — ответил писатель. Стой прямо, думал он. Будь смелым и сим победишь. — Прости меня в моём позорном состоянии.
Пауза. А затем:
— Но я не твой исповедник.
Эти слова, чёрные, как одеяние исповедника, заставили писателя почувствовать себя едва существующим. Что есть мужество, — нет, душество, — кроме храбрости и веры? Он здесь ради большего, чем отпущение грехов. Он пришёл за истиной. Он прошёл весь путь до ужасной долины, чтобы спросить: Что есть истинa? Что такое истинa на самом деле? Но теперь, когда ему представилась возможность вопрошать, его решимость ускользает. Его храбрость и вера тoже. Сейчас же он ощущает бесполезность перед неподвижной фигурой в чёрном.
— Значит, ты пришёл задать вопрос, — предположило оно.
Высеченная тьма долины сочилась паутинкой тумана, будто через сквозные поры. Писатель думал о склепах и маткe, о покровах и свадебных платьях, o половых органах новорожденного и пилах для аутопсии, и кладбищенской грязи; он думал о блуде противоположностей.
Он был совсем не уверен, что из себя представляет долина. Вероятно, пустоту. Раскол или рубеж. Чем бы она ни была, она былa очень далеко от мира. Он ощущал высшую упорядоченность по ту сторону: упорядоченность, что препятствуют принятию любого несовершенства, но не небес. Небеса — другое место. Писатель думал о жизни и смерти, однако он знал, что ещё не мёртв. Может быть, он просто по-прежнему познаёт.
Или, вероятно, это конец. Наверное, он познал всё, что когда-либо можно познать.
— Я вижу слишком много, — признался он. — Cлишком много чувствую.
— Ты винишь свою потерю чувствительности?
Эта идея как будто абсурдна. — Я… — попытался писатель, и ничего больше. Это не прощение за грехи, которого он жаждет, это другая сфера. Он жаждет быть освобождённым от всего неправильно истолкованного и от его неспособности по нахождению истины, настоящей истины и всего, что к ней сводится. Он чувствовал себя провидцем, который видел все вещи неправильно.
— Скажи мне, что ты видел, — сказал исповедник.
Приказ распространился в его уме чёрным цветком. Что же он видел, что было столь обманчивым? Печаль? Распад?
— Отчаяние, — ответил он наконец. — Слишком много сердец и слишком много жизней подталкиваются к черте распада.
— Ах, отчаяние, — исповедник поднял палец. — А что насчёт твоей собственной жизни? Твоего собственного сердца?
— Я не знаю. Сожалею, наверное.
— Но тебе было дано так много.
— Я знаю! Прости меня!