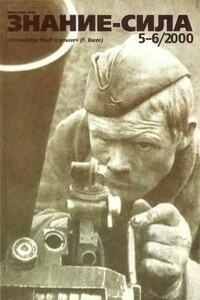Знание-сила, 1997 № 10 (844) | страница 9
Как только в 1917 году рухнул центр, все требования национально-территориальной автономии сменились требованиями полной независимости. Тогда и федералист Грушевский, ставший в марте 1917 года председателем Украинской Центральной Рады, написал: «Не разрывая с федералистской традицией как ведущей идеей нашей национально-политической жизни, мы должны твердо сказать, что теперь наш лозунг — самостоятельность и независимость».
Разумеется, он, как и многие-многие другие, хотел сочетать эту самостоятельность с дальнейшей модернизацией. Однако националистическое — антимодернистское — начало оказалось сильнее, начался «фундаменталистский» пересмотр ценностей. Это вело если не к отказу от модернизации, то к ее торможению; открывавшиеся было возможности изменить свое социальное и материальное положение сужались, а то и вовсе перекрывались.
Такая опасность вызвала активное противодействие слоев, чьи судьбы были связаны с модернизацией, и сплотила новые проимперские силы. Б этом смысле можно согласиться с евразийцами: хотя восстановили империю стоявшие у власти коммунисты, выработку «основных форм политического бытия» следует приписать «народной стихии, а не коммунистам, которые были лишь удобными орудиями и, в общем, послушными исполнителями».
Реальный федерализм в СССР двадцатых годов был невозможен по тем же Причинам, по каким он не мог пробить себе дорогу в дореволюционной России: из-за все еще слабого собственного «веса» регионов и региональных элит. Федерализм не имел достаточной социальной базы и был обречен на сползание либо к националистическому сепаратизму, либо к унитаризму. Между этими крайностями и развернулась борьба, причем «условия русской жизни» практически предрешили победу унитаризма.
Уже на XII съезде РКП(б) большевики выразили озабоченность ростом местных национализмов. Но съезд проходил на глазах у всего мира, там многое говорилось для публики. Всего несколько месяцев спустя эта озабоченность была выражена гораздо яснее на секретном совещании ЦК РКП, где унитаризм, по существу, открыл военные действия против местных национализмов.
Совещанию был придан характер суда над конкретным носителем националистического зла — М. Султан-Галиевым, который, как заявил на совещании Л. Троцкий, «на почве... своей национальной позиции... перешел ту грань, где недозволенная фракционная борьба превращается уже в прямую государственную измену».
Июньское совещание 1923 года стало чем-то вроде практических занятий для съехавшихся в Москву представителей новых, партийных национальных элит — им был преподан урок того, как следует толковать решения съезда. Так было положено начало долговременной политике новых имперских властей.