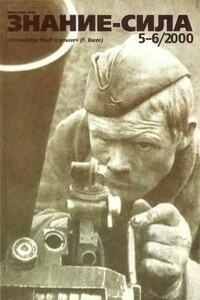Знание-сила, 1997 № 10 (844) | страница 7
Дворянство России (губернская «региональная элита» екатерининской эпохи, классической имперской поры), как замечал В. Ключевский, не стремилось участвовать в центральном управлении страной, оно претендовало лишь на местное самоуправление. «Дав нам в руки уезды, правьте, как знаете, столицей».
Но к середине XIX века на местах начали осознавать связь самостоятельных экономических интересов регионов с делами всей страны.
Новые региональные элиты: буржуазия (купцы и промышленники), высшие чиновники, университетская профессура, деятели культуры, разночинная интеллигенция — искали самостоятельности и начали бороться за усиление своего влияния в центре. Но не для того, чтобы захватить абсолютную власть в империи, как это случалось прежде, а для того, чтобы усилить свои позиции в межрегиональной конкуренции.
Хороший пример — сибирское «областничество». Как писал в начале нашего века один из его активных сторонников Г. Потанин, «первый крик нарождающегося сибирского областничества, раздавшийся в сороковых годах. «Естественное богатство Сибири есть достояние области!», удачно сразу наметил область экономических интересов как базу сибирского областничества». Потанин подчеркивал, что империя естественно делится на отдельные области и столь же естественно экономическое соперничество между ними.
«Областники», стало быть, добивались расширения своих прав на общероссийской сцене. На этом и сформировалась идеология федерализма. Глубинный смысл его требований всегда был один и тот же: передел экономической, а если можно и политической власти между регионами и имперским центром в пользу регионов.
Во второй половине XIX века реальных сил молодого российского федерализма для такого передела было недостаточно. Обнаружилось, однако, что у него есть мощный союзник — национальные движения. Подобно регионализму, их вызвала к жизни модернизация. Обрекая на исчезновение традиционное русское аграрное общество, она порождала «кризис этничности».
Некогда для неграмотного крестьянина в любой части империи язык его отцов был естественным и единственно возможным. С появлением больших городов, железных дорог и современного образования этого стало явно недостаточно, чтобы выйти в большой имперский мир. Жизнь, желание продвинуться ставили татар, грузин, украинцев перед необходимостью выбора (или компромисса) между родным и русским языком.
Языковая ситуация — лишь один из примеров того, как местное и имперское вступало в конкуренцию между собой, требуя сделать нелегкий выбор. То же было с религией, обычаями, правилами повседневной жизни. Шаг за шагом, с разной скоростью для разных социальных, этнических, лингвистических или конфессиональных групп, общество втягивалось в мучительные поиски нового «мы» и нового «они». Имперское сознание утрачивало свою целостность, раздваивалось, нарастал культурный, ценностный конфликт.