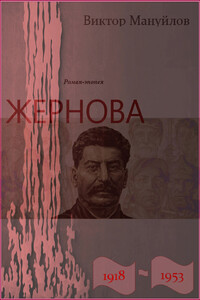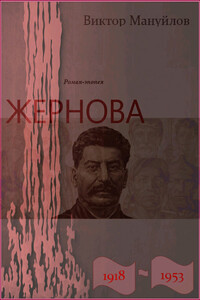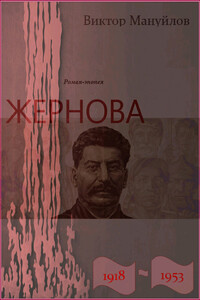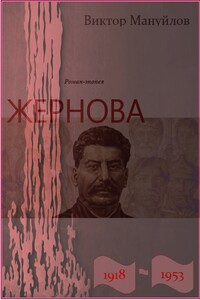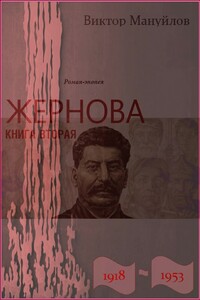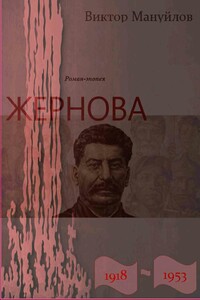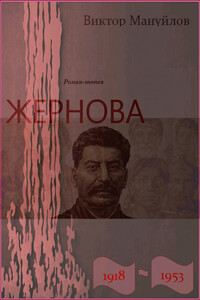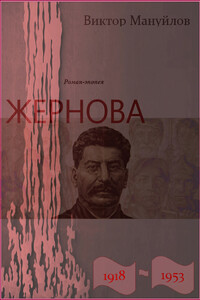Жернова. 1918–1953. Обреченность | страница 96
Меня принимали в комсомол одним из последних в классе, потому что я был моложе всех. Лишь одна девчушка по фамилии Бахман, маленькая такая беленькая эстонка, тихая и неприметная, родилась на несколько дней позже меня. И в комсомол поэтому нас принимали вместе.
Ух, как я волновался – пуще, чем на экзаменах. Вроде бы выучил все: и устав комсомола, и фамилии всех членов Политбюро, и все страны народной демократии, их столицы, имена их вождей, политическое положение в мире, то есть где и кто бастует или кто с кем воюет и за что, и свою биографию, и что-то там еще и еще, а ночью спал плохо, ворочался, видел какие-то дурацкие сны.
И вот я топчусь в коридоре перед дверью своего класса, жду вызова. Бахман жмется рядом со мной к стене, глядя в пустоту испуганными осенними глазами. Ее вызвали первой.
Прошло минут, может быть, пятнадцать, высовывается из двери Герка Строев и манит меня рукой.
Вхожу и вижу: за учительским столом трое: двое сидят, а Краснов, секретарь нашей классной комсомольской организации, почему-то стоит. Чуть в стороне сидит Вероника Анатольевна, учительница по физике, наша классная руководительница, старая плоская дама с резким визгливым голосом. А все остальные, то есть весь класс, сидят за своими партами. И Бахман вместе с ними, только в отличие от других, красная, словно ее оторвали от раскаленной печки. И все такие чужие и строгие, смотрят на меня, как на страшно провинившегося перед ними, и вот они собрались, чтобы осудить меня и расстрелять.
Я прохожу к доске, встаю к ней спиной, смотрю в класс и никого не вижу.
– Мануйлов, – обращается ко мне Краснов чужим голосом, будто он и не Краснов вовсе, а директор школы, а я у него в кабинете разбил стекло или сделал еще какую-нибудь пакость. – Расскажи нам свою автобиографию.
Я машинально отмечаю, что он должен был сказать «биографию», и начинаю рассказывать то, что знал сам, а кое-что записал со слов мамы:
– Я, Мануйлов Виктор Васильевич, родился в городе Ленинграде 6 ноября 1935 года. Родители мои были рабочими, выходцами из крестьян. Потом началась война, и нас – маму, сестренку и меня – эвакуировали на Урал. Потом… – так я дошел до того исторического события, когда мы очутились в Адлере, при этом не упомянув ни Новороссийска, ни Майкопа, ни Пиленково: мы жили там без прописки, и папа сказал как-то, чтобы я нигде не упоминал об этих городах и своей жизни в них. А еще как-то мама рассказывала о том, как их раскулачивали и как сгорела мельница, что у папы тоже была мельница, то есть не у него, а у его папы, и его папу тоже посадили в тюрьму, и он там умер; что, наконец, настоящая фамилия папы Мануйлович, а Мануйловым он стал, когда собирался уезжать в Ленинград, чтобы его не разоблачили. При этом она предупредила, чтобы я об этом никому не говорил, потому что… мало ли что. Я догадался, что рассказала мама об этом только сейчас потому, что «папа нас бросил», что он «подлец и негодяй», что если бы не бросил, я бы ничего не узнал об их прошлом. Отсюда и возникло во мне ощущение, что я говорю не всю правду, хотя то, о чем я говорил, было правдой, а о неправде я просто промолчал. Мне было стыдно и горько, я не знал, как бы при этом поступил Павка Корчагин. Скорее всего, если бы он оказался на моем месте, он не стал бы тем Павкой, каким о нем написал Николай Островский. Но мне от этого не было легче. Я даже не был уверен, что мне надо, как и всем, вступать в комсомол. Но тогда надо объяснять, почему не вступаю. А как? Этого я не знал тоже. А быть как бы наособицу – мне и в голову не приходило.